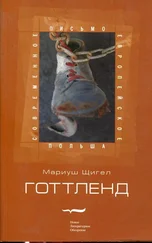Попытка объехать весь Советский Союз и увидеть, что происходит как в Томске, так и в Омске, эффектна, но поверхностна: невозможно выйти за рамки примитивных диагнозов — аллюзий и символов, в которые автор втискивает зачастую не проясненные до конца впечатления. В «Лапидарии III» Капущиньский говорит: «Жить в стране так долго, чтобы иметь право сказать: я ее совершенно не знаю». Вот-вот! Так чем же, если не спешкой, объясняется это стремление повествователя «Империи» постоянно делать выводы? Люди в баре едят быстро, замечает писатель, видимо, дает о себе знать закодированный в коллективной памяти призрак голода… Или: почему в магазине нет ложек и ножей? А все сырье пошло на колючую проволоку… Я взял первые попавшиеся примеры — их масса. Капущиньский и сам осознает это: «… невозможно избежать абстракций. Огромный масштаб совершающихся событий можно передать лишь с помощью языка и общих — синтезирующих, абстрагирующих — понятий, отдавая себе отчет в том, что ты раз за разом попадаешь в капкан схематизма и легко опровергаемых тезисов». Но, несмотря на это, масштаб темы превзошел возможности жанра и стремившийся к синтезу текст… распался на детали.
Деталь — основа документальной прозы, при условии, что тщательно подобрана и способна, подобно линзе, сфокусировать проблему или явление. В противном случае она утомляет и, вместо того чтобы сгустить краски, только размывает картину. Достаточно сравнить «Первые встречи с Империей (1939–1967 годы)», уже осевшие в памяти автора, словно оса в янтаре, с разделом «С высоты птичьего полета (1989–1991 годы)» — словно еще не застывшей смолой, к которой пристает любая пыль. Насколько выразительны были там крошки леденцов в доставшихся голодным мальчишкам пустых жестянках, настолько здесь кажутся излишними капли пота на авторском лбу (например, в аэропорту в Степанакерте). Взгляд писателя отмечает каждую деталь, все пока еще кажется важным, и лишь со временем, на расстоянии можно будет отсеять суть от сора. Выбор детали показывает, властен ли автор над действительностью, которую взялся описывать, или же это мир навязывает ему свой хаос, в котором царит случайность… и тогда остается лишь оправдываться распадом темы. (Даже цитаты в «Империи» кажутся произвольными, словно автор просто ссылается на все, что прочитал во время работы: Ингардена и Бруно Шульца, Леонардо и Симону Вайль… Порой источники характеризуют и авторский текст — то, что Капущиньский черпает исторические знания о России у марксиста Эйдельмана, игнорируя Карамзина или Ключевского, говорит само за себя.)
И наконец, язык: «…Я стараюсь писать короткими фразами, — читаем мы в “Лапидарии III”, — задающими темп и движение. Они стремительны и сообщают тексту прозрачность. Но, работая над “Империей”, я вдруг осознал, что здесь описание требует более долгих периодов, их диктует масштаб темы, неподвластный коротким предложениям. Стиль должен соответствовать предмету. Вот и для описания бескрайнего российского пейзажа необходимы длинные фразы». Итак, сравним: «… русский язык с его фразой — широкой, пространной и бесконечной, словно русская земля, — это уже из “Империи”, — ни декартовской дисциплины, ни афористичного аскетизма». Да неужели? А лаконизм Гоголя, Ахматовой, Шаламова? Варлам Тихонович писал, что в русском языке существуют две традиции: толстовская фраза, замедленная и тяжелая — словно лопата переворачивает пласт земли, и пушкинская, короткая и звучная, будто пощечина. Забудешь об одной из них — и Россия откроется тебе лишь наполовину (согласно формуле Милоша, утверждающего, что в русском языке содержится вся информация об этой стране).
5
С развитием массмедиа в России появился новый тип пишущих иностранцев — заграничные корреспонденты. К сожалению, в большинстве случаев их сочинения грешат как раз тем, о чем писал Ключевский. В начале девяностых я работал в Москве на польскую газету и имел возможность своими глазами понаблюдать за работой коллег. Особенно один мне запомнился, не буду уж называть фамилию: писал для трех изданий разом, а из всех событий текущего дня самым важным считал «Последние известия», из которых лепил пару анекдотов, которые выдавал вечером за собственные наблюдения. Другие, чуть менее избалованные, мотались по всевозможным пресс-конференциям, собраниям и банкетам, где прилежно глотали подаваемую к столу чепуху. Надо признать, что блюдо это в России сервируют мастерски, в чем имел возможность убедиться не один иностранец, взять хотя бы маркиза де Кюстина. Кое-кто черпал вдохновение из российских телеканалов. Добавьте к этому спецлавочку на Беговой, где отоваривались корреспонденты, поскольку в Москве царил дефицит, и многие другие привилегии, словно матовым стеклом отгораживавшие нас от действительности, и станет ясно, что образ России в заграничных СМИ и собственно Россия — это две разные страны. Дело не только в психологии — лени, невежестве (вышеупомянутый коллега Гоголя не читал, а «Повесть временных лет» приписывал Пушкину!). Свою роль играют и объективные факторы: вечная спешка (успеть к выходу номера!), не дающая сосредоточиться и разглядеть более глубинные явления, которые для правильного диагноза зачастую оказываются важнее, нежели эффектная, но поверхностная «новость»; стадный журналистский инстинкт, заставляющий корреспондентов валом валить на место происшествия, будь то война, путч или пресс-конференция, и писать, комментировать одно и то же; погоня за сенсацией, скандалом и кровью, пренебрежение к повседневности, непривлекательной для массового читателя; внимание к большой политике при игнорировании окраин и провинции. В результате львиная доля журналистских сообщений о сегодняшней России не выходит за рамки стереотипов, штампов или легенд.
Читать дальше