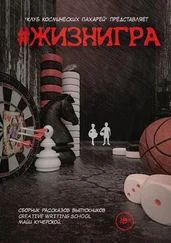А вот и мой дом, Николай Иванович. Спасибо, что проводили. Машков осекся, запоминая три подъезда и пять этажей, которые отныне должны были стать центром его мироздания. Так скоро! В смысле — очень приятно, пробормотал он. Галочка снова улыбнулась и отобрала у Машкова портфель. В подъезде она торопливо достала из кармана зеркальце и с удовольствием убедилась, что морозец был так милосерден, что нащипал только ее щеки, пощадив нос — совсем-совсем не красный. Губы были нежные, не лохматились, а подлый прыщик на лбу очень удачно прикрывала беретка. Галочка спрятала зеркальце, довольно хихикнула и быстро побежала по лестнице — наверх, наверх, наверх.
На следующий день Машков снова проводил Галочку, и через следующий, и на той неделе — опять. Они каждый раз, не сговариваясь, находили новый маршрут, все запутаннее и сложнее, все дальше убредая от конечной точки назначения — будто бросали на карту Энска воздушные кружевные, невидимые петли. Пятнадцать минут неспешного хода превратились сначала в полчаса, а потом и в час — редкие энские фонари загорались один за другим, дрожащим пунктиром отмечая эту блаженную ежевечернюю прогулку. Машков похудел от непривычных пешеходных усилий и на занятиях то и дело давал мальчишеского счастливого петуха. А Галочка… Галочка сияла таким наивным полуденным светом, что на нее, как на новобрачную, было даже как-то неловко смотреть.
Вездесущие кафедральные тетки зашептались было про возмутительный роман и недопустимые отношения, но сами быстро прикусили завистливые жала. Ничего возмутительного и недопустимого не было в том, как эти двое смотрели друг на друга, мало того, совершенно ясно было, что дело идет к свадьбе, к законному, так сказать, социалистическому браку, и мешать молодым, ополоумевшим от любви олухам было все равно, что рассказывать несмышленому малышу, что никакого Деда Мороза не существует, а подарки в мешке принес сильно выпивший и от того особенно шаткий сосед дядя Миша, слесарь-сантехник второго разряда и неисправимый холостяк. Тетки поворчали еще для порядку, повспоминали собственную впопыхах облетевшую молодость и азартно, всей стаей, переключились на бойкую профкомовскую разведенку, пытавшуюся в очередной раз увести кого-то из семьи. Машков и Галочка, даже не заметившие, что вокруг них начали сгущаться общественные бури, снова остались наедине. Вопреки всеобщим сплетням и опасениям все между ними было таким правильным и настоящим, они до сих пор даже ни разу не поцеловались.
Это было прелестное чувство — нелепое и трогательное, как двухнедельный щенок с толстыми лапами и розовым голым пузиком. Ни Галочка, ни Машков не знали, что делать дальше, — Галочка потому, что действительно не знала, а Машков просто не торопился. Он был взрослый, несокрушимо порядочный и, что называется, с серьезными намерениями и потому хотел, никуда не спеша, обстоятельно пройти по дороге, ведущей влюбленную пару к загсу, — и ничего, ничего не упустить, ни поворота, ни взгляда, ни укромного уголка. Он надеялся прожить с Галочкой долгую и счастливую жизнь, этот наивный Машков, и потому заранее, как хороший хозяин, запасался воспоминаниями и событиями, которые помогут потом преодолеть неизбежную скуку бытового сосуществования и дадут бесконечные поводы для бесконечных рассказов детям и даже внукам — а вот тут мы с бабушкой первый раз поцеловались, а вон из того роддома тебя привезли, ох и орал же ты первую неделю, я тебе скажу — мы с матерью ума не могли приложить, что с тобой делать! Наревелась она тогда, бедная… А потом легче пошло, а уж когда Машуня родилась, мать с ней, как с куклой, возилась — для чистого удовольствия. Ну, ясное дело, с третьим ребенком всему научишься…
Машков все хотел, все-все, как у людей, и даже лучше — и свадьбу, и фату для Галочки, и шумное застолье, и поцелуи под крики «Горько!» — стыдливые поцелуи, отдающие счастьем, винегретом и холодцом. Он хотел детей, много, как можно больше, чтоб вставать к ним ночью, носить на закорках и петь им песни про паровоз. Он хотел ложиться с Галочкой под одно одеяло, а утром — завтракать вместе с ней, и вместе принимать друзей, и вместе готовить борщ — Машков был самоотверженно готов взять на себя чистку лука и картошки, а уж мусор Галочка сроду бы не выносила, и посуду он тоже запросто сам, тем более что после армии ему все равно было, сколько мыть тарелок — пять или пятьсот. Вот как сильно он любил Галочку, так сильно, что, никому не сказавшись, не объяснившись, не познакомившись с родителями, уже начал тихую и яростную осаду месткома по жилищному вопросу. А заодно принялся собирать рекомендации, чтобы вступить в ряды КПСС. Он был хороший советский парень, Машков, — и честно верил, что родина и партия сделают так, чтобы у них с Галочкой была отдельная квартира. Конечно, не сразу, может, лет через десять — но отдельная. А пока — разберемся. Снимать можно свой угол, в конце-то концов. Или у родителей пожить. Главное — вместе.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу

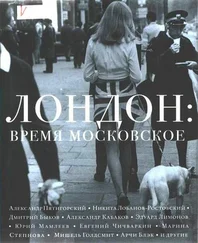






![Марина Степнова - Сад [litres]](/books/393426/marina-stepnova-sad-litres-thumb.webp)
![Марина Степнова - Хирург [litres]](/books/431962/marina-stepnova-hirurg-litres-thumb.webp)