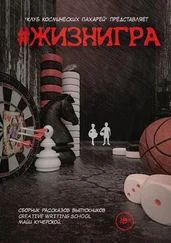Линдт кивнул с серьезностью, которую никто не заметил и никто не оценил. Курить он бросил тем же вечером — вышел в ледяной московский двор и вывернул из кармана даже не махорку — просто труху, табачный сор, добытый бог весть какой ценой, бог знает где, и такой вонючий, что Линдт, самозабвенно смоливший лет с десяти, ни разу не осмелился скрутить собачью ножку у Чалдоновых дома. Больше он в жизни не сделал ни одной затяжки, и если бы Маруся захотела вить из него веревки, то получившихся пеньковых изделий с лихвою хватило бы на всю Россию, а то и на весь обитаемый и необитаемый мир. Но она не хотела. Не хотела мучить своего мальчика. Такая чуткая, не видела и не замечала ничего. Линдт со стоном втянул в себя стиснутый, насквозь промороженный воздух и пошел назад, в дом. В тепло. Плевать на махорку. Можно отказаться от чего угодно — если тебе на самом деле есть куда идти.
Даже съехав в комнату, а потом и в свою собственную квартиру (благополучие Линдта росло прямо пропорционально благорасположению властей и обратно пропорционально его собственным потребностям), он не перестал бывать у Чалдоновых. Сначала едва ли не ежедневно, потом еженедельно — мучительный период ненужной деликатности, который Маруся, смекнув, в чем дело, решительно и быстро пресекла, — потом снова ежедневно, так что у Чалдоновых быстро появилась чашка Лесика, его любимое место за столом, диван, на котором он, припозднившись, оставался ночевать — привилегия, использовавшаяся действительно в исключительных случаях. Когда в двадцать третьем Маруся чуть не умерла от тифа. Не хочу даже вспоминать. Не буду. Слишком страшно. Или в двадцать девятом — когда Чалдоновы отмечали сорокалетие со дня свадьбы, и чуть не умер уже Сергей Александрович, на радостях преизрядно перебравший «рыковки» — тридцатиградусной, мерзкой, но зато быстро пополнившей казну молодого советского государства.
Надо признать, что из всех деяний Совета Народных Комиссаров самым удачливым и значительным следует признать именно декрет о разрешении продажи водки, изданный в конце 1924 года. Доход от питейного дела вырос в разы — от 15,6 миллиона рублей в 1922–1923 годах, до волнительных 130 миллионов в годах двадцать четвертом и двадцать пятом. Неплохо, если учесть, что бутылка стоила рубль семьдесят пять. Неблагодарный народец, впрочем, норовил обозвать водку «полурыковкой» и завистливо утверждал, будто настоящую «рыковку» — в шестьдесят градусов — употребляет сам председатель Совнаркома товарищ Рыков. В одно, надо полагать, рыло. И как только не лопнет, сволочь этакая!
Впрочем, малопьющему и умиленному любовным юбилеем Сергею Александровичу хватило и «полурыковки», употребленной вне всякой меры и такта, так что Маруся, ругаясь и смеясь, упросила Линдта остаться — потому что я одна не управлюсь, Лесик, и потом его же все время тошнит. Нет-нет, не убирайте! Ни в коем случае не убирайте! Пусть утром проснется и увидит, что натворил! Чалдонов, которого с большим совместным трудом удалось угомонить и загнать в постель, мирно почивал, разложив по подушке нимб из благородных и слегка заблеванных седин. Совершенно свой у Чалдоновых, Линдт вдруг понял, что впервые оказался в хозяйской спальне — маленькой, простеганной ночными тенями, похожей на нескромную шкатулку, захлопнувшуюся изнутри. Было почти нестерпимо душно — от рвотных ароматов, багровых гардин, от красного пухлого одеяла, отчего-то не убранного по случаю летнего времени, от венозного румянца, блуждавшего по чалдоновским щекам. Даже июньский тополиный пух, невесомо и едва ощутимо шевелившийся в полутемных углах, и тот казался душным и жутким, словно в кошмарном сне. И только Маруся была прохладная, в прохладном платье, и гладкие перламутровые пуговички на ее спине тоже были прохладные и обнаженные, как позвонки.
Одиннадцать лет почти ежедневных встреч. Ни одного неосторожного слова. Тридцать один год разницы. В год, когда Линдт родился, она впервые заметила возле глаз грубоватые гусиные лапки, которые не исчезали, как ни передвигала Маруся лампу, пытаясь обмануть лукавое отражение. Она огорчилась неожиданно сильно для женщины, которая считала себя здравомыслящей и, выбирая ботики, всегда предпочитала бессмысленной моде здоровую практичность. Застав жену в слезах и невнятных жалобах, Чалдонов помчался в аптеку и принес во влюбленном клюве пакет, содержимое которого должно было, по его простодушному убеждению, волшебно преобразить Марусю в сказочную принцессу, каковой она и так, несомненно, была, но — только не плачь, Марусенька, ну что ты плачешь, ты только посмотри, что я тебе купил!
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу

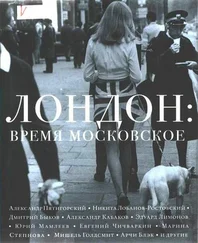






![Марина Степнова - Сад [litres]](/books/393426/marina-stepnova-sad-litres-thumb.webp)
![Марина Степнова - Хирург [litres]](/books/431962/marina-stepnova-hirurg-litres-thumb.webp)