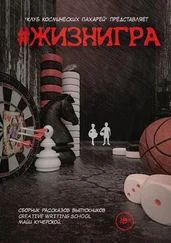Тут мамочкины мысли, достигнув окраины постижимого, начинали опасно буксовать, словно зависший над пропастью грузовик — надсадный вой агонизирующего мотора, два колеса тщетно наматывают на лысые шины густеющий воздух, два других — горстями швыряют мелкую, словно взрывающуюся от напряжения щебенку. Еще секунда до падения, секунда, секунда, прыгает перед глазами прозрачный пластиковый игрушечный чертик, Вовка сделал из капельницы, три рубля мне должен, зараза, теперь уж точно не отдаст, так вот, значит, как это, вот как умирают, вот о чем я уже никогда и никому не смогу рассказать… Ну почему небытие до рождения пугает меня больше, чем посмертная пустота? Почему умирать так не страшно, гос-пади-помилуй-и-пронеси?
— Ты бледная что-то, Нинуша, — встревожено говорил папа и целовал мамочку в плечо. Кожа под губами и языком была горячая и сухая, как будто слегка подкрахмаленная. — Не перегрелась?
Мамочка виновато улыбалась. Морок отпускал ее, и душа, мелко крестясь, выруливала на основную дорогу — взмокшая от ужаса, спасенная, изнемогающая, но самым-самым своим краешком тоскующая, что так и не узнала что там — за последней секундой, после которой только кувыркающийся полет вперегонки с бесшумными обломками железа, и треск рвущихся мышц, и… и… и… Мамочка растерянно пыталась представить себе то, что невозможно себе представить, терлась лбом о спасительную мужнину руку — крепкую, в крупных веснушках и родных рыжеватых махрах. Да, жарко что-то, милый. Голова закружилась.
Лидочка, в свои пять лет еще совершенный звереныш, почуяв неладный потусторонний сквознячок, тотчас бежала к матери — горячая, ловкая, в невиданных импортных трусиках-недельках. Каждый день — новый цвет, каждый день — новая смешная аппликация. Розовые трусики с земляничиной — понедельник. Голубые с нахохлившимся зайкой — вторник. Желтые со щербатым подсолнухом — среда. Ма, ты чего? Мамочка нежными губами трогала дочкины веки — один глазик, другой — все в порядке, Барбариска, ты не обгоришь у меня, а? Не, успокоившаяся Лидочка выворачивалась из ласкающих рук, рвалась обратно к морю, новые пляжные знакомцы приветливо скалились. Лида, Лидочка, Леденец, Барбариска — маленькие семейные прозвища, воркующий говорок родительской страсти. Никогда и никто больше так сильно. Никто и никогда.
— Не удирай, партизанка, — папа подхватил Лидочку на руки, ловко перевернул, так что Лидочка зашлась от смеха: небо и море плавно поменялись местами, вот-вот посыплются в облака кораблики на горизонте, кусачие рыбы, морские коньки, все плыло, таяло, висели на невидимых нитках оглушительные чайки, парила между небом и морем сама Лидочка.
Это и было счастье — родные, горячие руки, которые никогда тебя не выпустят, не уронят, даже если перевернулся весь мир. Она потом это поняла. Очень сильно потом.
— Посиди с тетей Маней и дядей Колей, — велел папа, опуская Лидочку на песок, и море снова стало внизу, а небо — вверху. Как обычно. — Посидишь? А мы с мамочкой сплаваем, а то она у нас совсем-совсем сварилась.
— Идите, идите себе спокойно, — сдобно загудела тетя Маня, — я своих двоих на ноги подняла, да внучка третья на подходе — глаз с вашей красотули не спущу. Купайтеся на здоровье.
— Мы не надолго, — виновато пообещала мамочка и прижалась к Лидочке мягкой огненной щекой. — Слушайся тетю Маню. Я тебя очень и очень люблю.
Лидочка невнимательно кивнула — тетя Маня с заговорщицким видом производила в своей сумке какие-то энергичные раскопки, и ясно было, что извлечет она что-то очень и очень интересное. Дядя Коля тоже выглядел заинтригованным — видно было, что его жизнь с женой до сих пор полна молодых, волнующих сюрпризов. Опаньки! — с цирковой интонацией воскликнула тетя Маня и одарила Лидочку громадным персиком — нежно-шерстяным, горячим, тигрово-розовым от переполнявшего его света. Волна толкнула прохладной лапой мамочкин живот, и по спине и плечам тотчас шарахнулись торопливые мурашки. Лидочка, зажмурившись, понюхала щекотный персик. Давай, кто быстрей до буйков, Нинуш? Мамочка тряхнула головой и доверчиво улыбнулась. Кушай, доча, — ласково напутствовала тетя Маня, дядя Коля уже обстукивал об коленку вареное яйцо, добытое из той же сумки, на газетке один за другим, как в фокусе, появлялись уродливые помидорины «бычье сердце», ломти экспроприированного из столовой хлеба, колбаска, рыночный, насквозь золотой виноград. По восемьдесят копеек сторговалась, похвасталась тетя Маня и с одинаковой бездумной нежностью погладила сперва нагретую солнцем головку Лидочки, а потом — стриженый дегенеративный затылок своего пролетарского мужа, — ох, и золотая ты у меня, хозяйка, Маруська, сам себе завидую, чессло…
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу

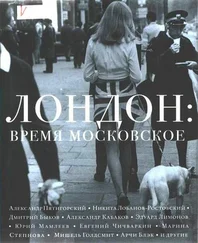






![Марина Степнова - Сад [litres]](/books/393426/marina-stepnova-sad-litres-thumb.webp)
![Марина Степнова - Хирург [litres]](/books/431962/marina-stepnova-hirurg-litres-thumb.webp)