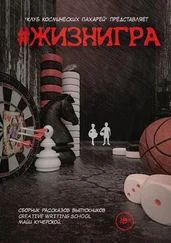Лидочка смотрит, как ветер то грубо дергает застекольный клен за руку, то отпускает ему подзатыльник — будто читает мораль непослушному подростку, зажав его между непреклонных колен. Отвечай полным ответом! Клен уворачивается от очередного тычка, затравленно смотрит в сторону в поисках подходящей для побега подворотни — никуда ты не удерешь, сочувственно шепчет Лидочка, а сама машинально напрягает под шерстяными гетрами то одну, то другую икроножную мышцу — разогревается перед уроком классического танца. Сколько таких уроков ей еще осталось?
Лидочка честно попыталась сосчитать — но ближе к сотне сбилась, ускорила мысленный шаг и, наконец, побежала, одной рукой стягивая на груди репетиционную кофту, а другой отводя от лица тугие ветки еще не придуманных, не продуманных, бледнолистых кустов.
Дом никуда не делся, стоял на пригорке и на этот раз был из красно-коричневого вкусно пропеченного кирпича. Лидочка прикинула, по-хозяйски прикусив нижнюю губу, и кирпич послушно посветлел, а потом и вовсе превратился в крупно напиленный ракушечник, ноздреватый и радостный, как рафинад. Лидочка подошла к двери — светлой? темной? светлой? — ладно пусть будет темный орех, и два изогнутых фонаря в чугунных шапочках, и дверной звонок, вылупивший на гостей приветливую, глуповатую, перламутровую кнопку.
Прихожую — пока непонятно даже, большую или маленькую — Лидочка проскочила, зажмурившись (потом-потом, теперь уже непременно придумаю в следующий раз!), и открыла глаза только на кухне, обожаемой, огромной, практически обставленной, любовно вылизанной до сверкающих, трубных, медных мелочей. Лидочка торопливо пересчитала глиняные чашки — в прошлый раз так и забыла все на столе! — три, четыре, шесть, рядом глиняный же кувшин грубого терракотового цвета, почти уродливый, совершенно прекрасный, хранящий на неровных боках отпечатки пальцев безвестного гончара. Молоко в такой посуде всегда будет холодным, даже в самую лютую жару.
Все на кухне, слава богу, осталось прежним. Солнечные вздыхающие занавески. Огромная плита. Под ногами напитанный летом деревянный пол, шероховатый, деревенский, — а вон из той щелки под плинтусом ночами будет вылезать мышонок, легкий, призрачный, как тень домового, и Лидочка никогда не забудет оставить ему у ножки стола маленький, но правильно сервированный ужин — пару ломтиков сыра и хлебную корку на нежной бумажной салфетке. В доме непременно должны жить мыши, без их тихого сухарного хруста будут плохо спать и дети, и кошки — целая стая пестрых кошек, независимых, бесшумных, давно перепутавших в один беспородный клубок все нити позабытого кровного родства.
И еще обязательно будет собака — большущая, дворовая, и за ужином, в дождь или в снегопад, все будут уговаривать друг друга, что ей очень тепло и уютно в набитой сеном просторной конуре. А потом, когда во всех комнатах по очереди погаснут ночники и лампы, Лидочка поставит в буфет последнюю, до скрипа вытертую тарелку и пойдет к двери, чтобы втихомолку пустить собаку в дом. И улыбнется, услышав в потемках смущенный и радостный стук хвоста, — кто-то уже побеспокоился раньше нее, когда в доме много зверей, сердце у детей растет быстрее, чем они сами, но, ах, дети, дети, куда же вы торопитесь! Опять к весне покупать всем новую обувь, опять радостные ссоры над картонными коробками, негодующий визг младших и шорох мягкой мятой бумаги, мешающийся с крепким запахом еще не разношенной кожи и черных резиновых каблуков. Лидочка видела каждую загогулину на подметке, чувствовала войлочное тепло каждой стельки, но лица детей туманились, расплывались, дети были — сплошные птичьи голоса, близкий ласковый клекот, а муж и вовсе оставался невидимым, и как ни спешила Лидочка по комнатам, но догнать все равно удавалось только теплое движение растревоженного воздуха. Словно кто-то раздвинул невидимую портьеру и мазнул Лидочку по лицу тяжелым струящимся потоком, сотканным из запаха, из запаха… Лидочка терялась, не зная, как будет пахнуть муж, не понимая, как его можно окликнуть. «Милый?» — спрашивала она, растерянно стоя на пороге пустой комнаты, плывущей, зыбкой, а впереди струилась еще целая анфилада таких же неясных пространств — словно кто-то уронил на дно ручья нитку колеблющихся, струящихся бус. Дом, такой прочный и настоящий, начинал туманиться, теряя телесные очертания, и Лидочка, виновато зажмурившись, возвращалась на кухню, о которой мечтала больше и чаще всего — как будто о смысле и свете своей будущей жизни.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу

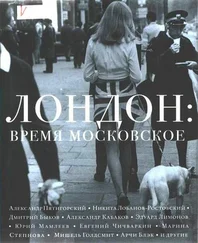






![Марина Степнова - Сад [litres]](/books/393426/marina-stepnova-sad-litres-thumb.webp)
![Марина Степнова - Хирург [litres]](/books/431962/marina-stepnova-hirurg-litres-thumb.webp)