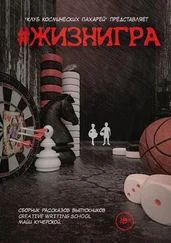— По-моему, — сказала она сухо, — это честная сделка. К тому же через выходные я планирую забирать девочку к себе. И вы сможете пользоваться ее койко-местом, сколько захотите.
Лидочка вошла в узкую, как гроб, комнату — две кровати, коврик с истоптанными мишками, окно, все в трещинах и культурных пластах масляной краски. С тоской втянула нежилой общажный дух — снова не дом. Опять. У окна маялась бесцветная девочка, даже не девочка — девченыш, мышиные волосы стянуты в жидкую балетную шишку, личико — в гримасу настороженной вежливости. Глаза огромные, как у истощенного совенка. Бухенвальд.
— Тебя как зовут?
— Лида.
— А меня Люся.
Через полгода все в училище так и звали их — ЛюЛи. Пришли ЛюЛи. Лида и Люся. Линдт и Жукова. Задавала с прилипалой. Принцесса и горошина. ЛюЛи, русский скатать дадите? Лидочка смотрит на Люсю, Люся на Лидочку. Потом обе согласно кивают круглыми, гладкими, балетными головами — ниточки проборов, узлы по-взрослому убранных волос над тощими детскими шейками, острые лопатки, фартучки, лошадиные сухожилия, сочленения натруженных позвонков. Дадим! Люсина тетрадка отправляется в плавание по чужим партам, Лидочка списала все еще в комнате — с русским она не дружит, с математикой тоже. Зато она дружит с Люсей Жуковой и Еленой Молоховец.
Вечерами, когда они наконец собираются все вместе — втроем, им больше никто не нужен. Люся лежит прямо на полу, распластав маленькие бедра, одна коленка засунута под чугунную батарею, на другой, слегка балансируя, стоит Лидочка с огромным томом Молоховец в руках. Упражнение называется «лягушка».
— Одну телячью печенку нарезать тонкими ломтиками, одну осьмую фунта шпика, одну луковицу мелко нарезать, сложить в кастрюлю, прибавить английского перца, лаврового листа, соли, поставить под крышкой на сильный огонь, смотреть, чтобы не пригорело, — нараспев читает Лидочка, и в паузах слышно, как Люсин ангел-хранитель тихонько сглатывает голодную слюну. — Когда печенка будет готова, то есть подрумянится, слить жир, выложить на стол, мелко изрубить, истолочь все вместе в ступке, прибавить ложку вымытого масла, четверть французской булки, намоченной и выжатой, перетолочь еще раз, протереть сквозь сито, влить рюмку мадеры…
— Долго еще? — стонет Люся, волосы у нее на висках слиплись от слез, натянувшиеся жилы в паху беззвучно поскрипывают, Люся даже не замечает, что плачет, она смотрит в потолок со дна своей боли — у нее плохая выворотность, надо работать, приходится работать, в балете все больно, чего ни коснись. Все — одна сплошная боль.
— Не перебивай! — сердится Лидочка. — Еще десять минут. Я скажу. Значит, прибавить рюмку мадеры, одну ложку хорошего рома, всыпать мускатного ореха, соли, нафаршировать испеченные слоеные пирожки в виде рога изобилия, вставить в печь минут на пять…
Люся обессилено закрывает глаза, пытаясь представить себе пирожки в виде рога изобилия или хотя бы просто пирожки, как у бабушки, — жареные, жирные, все в коричнево-золотых ожоговых волдырях. С капустой. Или с яблоками. Или — Люсины любимые — с грибами и крупно нарубленными крутыми яйцами. Можно не бабушкины, можно и обычные, столовские, резиновые, из алюминиевого бачка с размашистой надписью «Общепит». Куснешь такой пирожок за тугой бок, и голодное небо обдает тепловатым пустым вздохом — опять на кухне пожалели начинки, паразиты.
Впрочем, на кухне хореографического училища жалели как раз не начинку, а балетных, которые, отводя глаза, тащили полупустые засаленные пластмассовые подносы — мимо, читатель, мимо. Сдобные тетки-раздатчицы напрасно погружали половники в гигантские кастрюли с соблазнительно дымящимися белками, жирами и углеводами — несмотря на просчитанный диетологами рацион и адские нагрузки, будущие балеринки истерично, до голодных обмороков, боялись поправиться хоть на грамм и навеки лишиться расположения своего всемогущего бога.
Обязательное взвешивание раз в полгода было судным днем: когда солнце, луна и плафоны меркли и спадали с колеблющегося потолка, и сам потолок свертывался, как свиток. Бледные — бледнее самого бледного коня, оглушенные ангелами и трубным кишечным гласом, балетные толпились в коридоре перед медицинским кабинетом, прижимали к стене дрожащие лопатки, из последних сил втягивали несуществующие животы. Норма минус сто пятнадцать — это значило, что при росте в сто сорок сантиметров девочка не имела права весить больше двадцати семи килограммов. Лучше — двадцать пять. Совсем хорошо — двадцать три. В старших классах минус сто пятнадцать превращались в полноценные минус сто двадцать. Полтора метра роста и тридцать пять кило? Да кто тебя поднимет, жирная корова? Вместо того чтобы жрать, пойди лучше покури!
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу

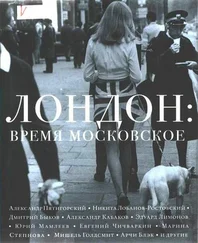






![Марина Степнова - Сад [litres]](/books/393426/marina-stepnova-sad-litres-thumb.webp)
![Марина Степнова - Хирург [litres]](/books/431962/marina-stepnova-hirurg-litres-thumb.webp)