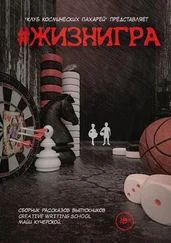И только тогда наконец решилась открыть глаза.
Она лежала в тихой, полутемной гостиной на огромном кожаном диване, который был так потрясен невиданным прежде вниманием хозяйки, что не осмеливался даже шевельнуться. Какое-то время Галина Петровна бездумно рассматривала люстру, неподвижную, темную, растопырившую бронзовые лапы, точно гигантский затаившийся паук, готовый вот-вот рвануть вниз, к парализованной ужасом добыче. Завтра же сменю эту пакость, подумала она, и слово «завтра» отдалось в голове грустным, неясным звоном — словно где-то далеко, может быть, в детстве, уронил горн маленький и бесконечно уставший от подвигов пионер, похожий не то на замученную игрушку, у которой наконец-то кончился завод, не то на рано повзрослевшего ангела.
Галина Петровна неловко попыталась сесть — мир от снотворного стал мягким и путаным, словно полуспустившийся со спиц недовязанный шарф, — и только теперь заметила, что в гостиной не одна. У стола, в лужице света, едва просочившейся из-под абажура маленькой лампы, свесив непослушную голову на крупные лапы, дремал фельдшер, можно даже сказать — фельдшеренок лет двадцати, оставленный, видимо, для того, чтобы сановная вдовица не натворила на радостях еще каких-нибудь дел. Запястья у фельдшеренка были широкие, как у породистого щенка, а на носке, прямо у большого пальца, сияла умилительная, как пупок новорожденного, дырка. Воспитанный парень. Разулся. Не рискнул осквернять грязными ботинками барские паркеты.
— Эй! — сказала Галина Петровна негромко.
Фельдшеренок дернулся, вскинул голову и то ли от неожиданности, то ли от молодости улыбнулся — глуповато и радостно, точно так же, как улыбался спросонок Борик, когда был маленьким. А ведь он младше Борьки. И мать у него, должно быть, моложе меня. Фельдшеренок крепко потер глаза и встревожено спросил Галину Петровну — вы в порядке?
— В полном, — ответила Галина Петровна и распахнула халат, мягко осветив комнату голубоватым голым телом. — Иди-ка сюда.
Фельдшеренок сглотнул и растерянно оглянулся, словно кто-то — старший и опытный — мог подсказать ему, что делать.
— Иди, иди, не бойся, — насмешливо повторила Галина Петровна, чувствуя, как заливает лицо и грудь дикая, глупая радость, что все наконец-то случилось, все кончилось, она наконец-то дождалась.
Все действительно кончилось — через пять минут, включая радость, и, закрывая за растерянным, отчаянно смущенным парнем дверь, Галина Петровна не испытывала ничего, кроме острого желания вымыться, такого же, как с Линдтом, только в тысячу раз хуже.
За первые полгода своего вдовства она сменила не меньше десятка любовников — молодых и не очень, наглых, самоуверенных и тихих, всего на свете робевших, — но ни с одним из них не случилось ничего, кроме влажной, омерзительной, телесной возни, в которой не было и тени той любви и нежности, которой, оказывается, была полна каждая минута ее жизни с Линдтом. С ним все было по-другому. Абсолютно все.
И теперь, когда сказка, которую она считала такой страшной, закончилась, Галина Петровна вдруг обнаружила, что балованная, юная, любимая девочка, которой она привыкла ощущать себя целых двадцать три года, превратилась в тыкву — обычную сорокалетнюю вдовицу, конечно, без материальных проблем, зато с намечающимся вторым подбородком. Желающих переспать и подхарчиться было навалом, но никто не говорил ночью, не просыпаясь: «Солнышко мое», никто не помнил, что яблоки она любит твердые, чтоб хрустели, а груши, наоборот, переспелые, и никто не умилялся, когда, перепачканная этими грушами, она облизывала липкие пальцы, словно маленькая. Да и маленькой ее больше никто не считал.
Галина Петровна разогнала любовников и рассорилась даже с теми немногими приятельницами, что могли выносить ее выходки и бриллианты. Сын, говорите? Да этот свиненок умудрился не прийти на похороны к родному отцу! Она сменила гардероб, мебель в спальне, купила новую машину и поняла, что ей, собственно, незачем выходить из дому.
Это было чудовищно. Но это и была свобода.
До двадцать восьмой комнаты на втором этаже Лидочка добралась без приключений. В полуоткрытую дверь виден был циклопической величины зал с зеркальной стеной, в которой отражался зеркальной же натертости паркет, странным образом отражающий в себе зеркальную стену. В каждом направлении череда отражений упиралась в опасную бесконечность, и в центре каждой бесконечности желтым сальным пятном расплывалась все уменьшающаяся люстра. Очень простая задачка, отозвался Лазарь Линдт. Если принять во внимание скорость света и предположить, что расстояние между зеркальными поверхностями — два метра, то при продолжительности опыта в одну минуту можно увидеть девять миллиардов отражений люстры. Лидочка, полуоткрыв рот, начала считать. Важное условие, продолжил Линдт, и снова невозможно было понять — шутит он или давно уже умер, — наблюдатель должен быть совершенно прозрачным, чтобы не загораживать собой ряд отражений.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу

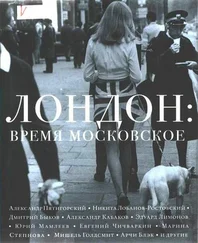






![Марина Степнова - Сад [litres]](/books/393426/marina-stepnova-sad-litres-thumb.webp)
![Марина Степнова - Хирург [litres]](/books/431962/marina-stepnova-hirurg-litres-thumb.webp)