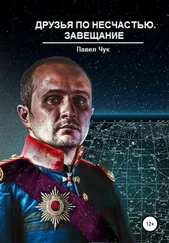Только что, перед самой остановкой, его автобус обогнал военный грузовик, битком набитый солдатами в касках, восседавших с весьма воинственным видом под раздувающимся от ветра брезентовым верхом; впрочем, его удивил лишь цвет их униформы — зеленой, а не красноватой, как было прежде.
В 1959 году, вскоре после гибели Рубена, Эссола, сам того не ведая, в последний раз приехал в родные места и, не подозревая, какую роль сыграл Нтермелен в стратегических расчетах обоих лагерей, с интересом наблюдал, как стараниями стратегов колониальных войск, именуемых в официальных сообщениях «заморскими», городские окраины превращались в укрепленную зону с многочисленными военными постами, причем моторизованные патрули то и дело прочесывали город, следуя заранее намеченными маршрутами, что повергало в безмолвный ужас крестьян, направлявшихся по утрам на рынок.
Ему показалось, что сегодня с гораздо большей откровенностью, чем тогда, блюстители порядка, разгуливающие по всему городу в одиночку или группами, демонстрировали свою силу и власть. Еще в лагере все в один голос твердили, что в этих краях с рубенистами, патриотами и революционерами покончено. Рассказывали, будто на другой день после провозглашения независимости немногочисленные борцы, еще не сложившие оружия, были схвачены и их судил трибунал молодой республики по обвинению в терроризме, а потом их возили из одной деревни в другую, после чего они были расстреляны на глазах у всех. Случалось, что изуродованный труп мученика выставлялся для всеобщего обозрения в родной деревне.
Поэтому начиная с 1962 года власти, пытаясь окончательно сбить с толку народ, хранивший вопреки преследованиям верность памяти Рубена, по наущению французских психологов — советников Баба Туры — стали трубить о том, что жесткие меры властей сыграли свою благотворную роль и обеспечили умиротворение умов, и отныне царившая здесь атмосфера вызывала в памяти тех, кому довелось жить в те благословенные времена — начало пятидесятых годов: вернувшись, как говорится, к истокам, люди старались не выходить за рамки освященных традициями забот, они не только стали чураться политики, точно проказы, благоразумие (столь типичное для банту) заставляло их теперь избегать даже политических тем в разговорах, что со всей неоспоримостью предвещало возврат былого благополучия.
— Эй, молодой человек! Молодой человек! Молодой человек…
Он очнулся от того, что какая-то женщина, уже увядшая под бременем лет и тяжких трудов, коснулась его руки.
— Сын мой, не тебя ли зовет этот белый? — с испугом спросила она.
Устав кричать, шофер — это был мужчина атлетического сложения, по всей видимости грек (так уж исстари повелось, что в Нтермелене все шоферы были греки), — подскочил к Эссоле и, показывая на старый деревянный чемодан, спросил рассеянного пассажира:
— Это твой?
— Мой, — не сразу ответил Эссола.
— Садись, — приветливо сказал водитель и устремился к кабине. Он поставил чемодан рядом с собой — так, чтобы он не мешал переключать рычаг скоростей. — Садись вот сюда, рядом со мной, — предложил он Эссоле, покорно следовавшему за ним. — Так мы сможем поболтать. Я видел, как ты садился в Ойоло, только на этом месте тогда сидел один старик, он после операции. Крутить баранку и ни с кем словом не обмолвиться — это не по мне, я, видишь ли, люблю поболтать. Только сам посуди, легко ли по нынешним временам найти кого-нибудь, с кем можно душу отвести, особенно в этих краях. Все чего-то опасаются, каждый боится рот открыть, можно подумать, будто какой запрет вышел.
Не умолкая ни на минуту, шофер включил мотор, крутанув рукоятку, торчавшую рядом с рычагом скоростей. Тяжелый автобус тронулся с места, Эссола качался из стороны в сторону на своем мягком, непонятным образом подвешенном сиденье, переваливаясь с боку на бок, словно захмелевший человек, раскачивающийся в такт тамтаму. Столь неожиданное предложение шофера позабавило его, вызвав невольную улыбку, которая, впрочем, тут же исчезла.
Выехав из Нтермелена, они углубились в чащу сумрачных лесов; кроны высоких деревьев, точно зеленый свод, смыкались над дорогой, а но обеим сторонам то и дело мелькали деревни, которые поразили Эссолу своим запустением. На скатах растрепанных соломенных крыш виднелись большие щели — явное свидетельство нерадивости хозяев. Белая известка местами осыпалась, обнажив коричневую штукатурку глинобитных стен, похожую на запекшуюся кровь. Деревянные ставни хлопали под порывами ветра. Козы и бараны, сгрудившиеся на террасах, невозмутимо пережевывали свою жвачку. Можно было подумать, что жители этого края внезапно покинули свои дома и в ужасе бежали, почуяв приближение опасности.
Читать дальше
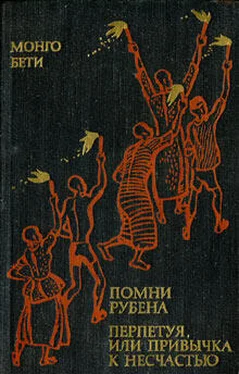
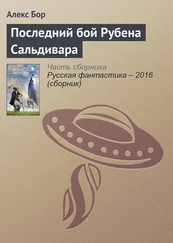





![Лора Гарнетт - Привычка гения [Как одна привычка может полностью изменить вашу работу и вашу жизнь] [litres]](/books/385616/lora-garnett-privychka-geniya-kak-odna-privychka-mozh-thumb.webp)