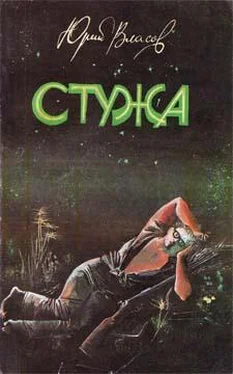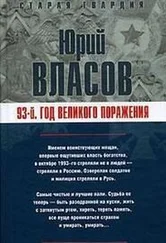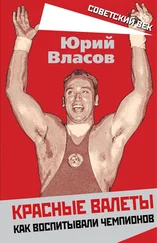Я кашляю, долго кашляю, кажется, кишки выплюну.
— Не усрись, — сипит Барсук. — На, курни, полегчает.
Это он закурил нарочно для меня, хрен сопатый. Мусолю бычок, подпаливаю пальцы и затягиваюсь, затягиваюсь. Вроде должно быть наоборот, а кашель проходит. Все так лечимся.
— Братва, а там драка, — с тревогой сообщает Гришуха. — Народу побьют!
— Без тебя слышим, — сипит Барсук и откидывает плащ-палатку.
Мать моя родная, отсветы по верхнему краю траншеи, но такие, ровно запалили полнеба! Бешеные отсветы, не унять их. Глаз с них не сводим. Что там?.. Кабы не окружили…
— Вот это да, — шепчет Пашков, — ну наложат народу.
— Что у них там? — спрашивает Гришуха.
Над головой паутина из трассирующих пуль. Ракета на парашютике полыхает долго. Свет прозрачный, ярко-синий. У соседей по нарастающей — взрывы, стрельба. Ночь и с их стороны наливается красным, дрожит.
Мы зажаты боем с обеих сторон. Один — тут, под боком, гляди, и нас замоет. А другой — далекий, от него лишь глухой рокот и этот отсвет на полнеба. Мы, как есть, в коробке.
— Ну дают, — бормочет Гришуха.
— Слазь, — говорит Пашков. — Моя смена.
Я встаю, даю слезть Гришухе. Он матерится, выщупывает сверху ногами опору. Я кашляю, со мной кашляет и Гришуха.
— Вот кашель пристрелили бы, а меня не тронули бы. — Я вытираю слезы.
— Не дури! Накликаешь, чего ты?! — не на шутку злится Барсук. — Сдурел, да?
Гришуха ворчит:
— Хоть бы соломы. Намозолил задницу. Поджопники раздали бы, что ли.
Слава Богу, у нас пока лишь неприцельная стрельба, жить можно. Пусть льет, пусть мерзнем — в заварушку бы только не втянули…
— Как они Генку утащили? — шепчет сверху Пашков. — Все же видно — не проползти. Смотри: любая кочка как на ладони.
— Вот ты и смекай, — сипит снизу Барсук.
Слышу, как вздрагивает спина Барсука. Ну одни кости!
— А главное — гляди, не спи, — не унимается Ефим, — а то всех передушат.
— Тебя не станут, — бормочет Пашков, — Тебя прирежут: жилистый ты больно.
Пробую губы: пухнут, не пошевелишь. Чем же меня так звездорезнуло?.. Снова натягиваем общую плащ-палатку, мостимся один к другому.
— Атас, братва, — шепчет Пашков. — Ротный!
Лотарев прошлепал, ничего не сказал. Видно, не одни мы такие ушлые. Да дураку ясное: втроем, вчетвером надежнее. Для всего надежнее: и для нас, и для обороны.
Вылезаю из-под плащ-палатки: жесткая, гремит. Кашляю. Отхожу на несколько шагов и оправляюсь. И взаправду бы не отшибли хозяйство. Я еще и не целовался, а хочется! Мерином жить-то?
— Хоть отлить есть чем, — говорит Пашков, — а то ведь задницу, поди, паутиной затянуло.
Стою, головой кручу. В ракетах все, ровно день. Ежели не убивали бы — даже красиво. Стою и любуюсь.
После смотрю на черный ком внизу: там, под плащ-палаткой, ребята. На винтовках, цинках, лопатках и нашем обмундировании — изморозь. И дыхание у Пашкова — белым паром. Не отпускает стужа.
ДЕНЬ ШЕСТОЙ
Съежился у бойницы. Лед в воронках белый, пористый. Лужи разливаются… Скребусь помаленьку, грязь заедает. Волосы, хоть и стриженые, склеились, местами даже в коросте. До крови расчесываю. Тут на тебе не только вошь, а неведомо какие звери заведутся.
Житье — ангельское. Немец разнес полевые кухни со всеми припасами. Пути подвоза распутица вывела из строя. И от авиации тылам достается. НЗ давно подмели. И мы, как есть, без корки хлеба. И не напьешься: вода с гнилью. Кто попробовал — по двадцать раз в день портки сбрасывает. А вот водку… водку обещали, даже двойную норму. Но не чохом, а два раза в день — не сдуреем тогда. Первые сто граммов уже махнули. Так повело на пустое брюхо, хоть гармонь бери. Эх, нацеловал бы, нагладил бы…
Лес издаля сизоватый, кружевами. Ласковый, должно быть. Сережками позавесился. Весна-то уже в ладошках: любуйся, принимай в сердце… А за Угрой не затихает драка. Туда с рассвета немецкие бомбардировщики: клин за клином, ровно черным мажут душу. А у нас благодать! Пуля чмокнет в грязи — и опять тихо, спокойно. Вода журчит. Снег шорохом оседает, темный, крупчатый. Проталины шире, шире. Ежели бы со жратвой да потеплее — курорт, а не затычка.
Сон морит, голова то на грудь, то назад… Пробую губы: подживают вроде.
О соседях — по цепочке узнаем. Тут все новости как по телеграфу.
Спрашиваю:
— От ангины борода?
Щетина у Барсука цыганская.
Ефим молчит. Трет глаза, а глаза красные, слезятся. Допек его снайпер. Нам запретил заниматься: стреляем, мол, хреново — значит, спугнем или себя сгубим. Сам с фрицем в прятки играет. Барсук с малых лет охотится, стреляет дай Бог. Он даже здесь ухитрился пристрелять свой винтарь… Сколько на снайпере ребят! Именно эта паскуда меня по темечку…
Читать дальше