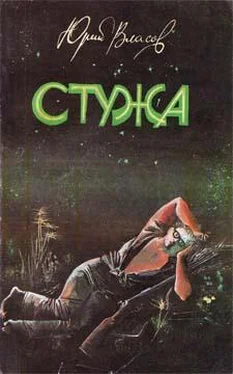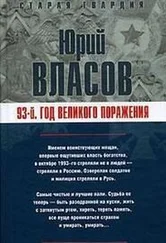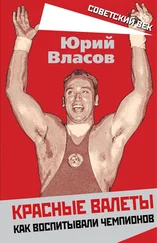Я поворачивался и смеялся Наденьке. Она от солнца. Она осколок этого жгучего солнца…
У Наденьки сильные руки. Она не отстает. Иногда нога ее вырывается из воды и взметает белый фонтан. И белую пену подхватывает течение. Я ныряю, а после жадно ловлю губами воздух. И снова плечом к плечу мы режем воду. И течение надвигает на нас наш островок. Островок колдовских запахов. Таволга! Сиреневатые сумерки. Река, которая ночью такая таинственная, чужая… И такими внезапно белыми становятся глаза Наденьки, и губы вспухают, а лицо делается строже, и в нем уже какая-то непонятная сосредоточенность. Я волнуюсь, и наши плечи почти соприкасаются. Мы ощущаем слитность движений. И уже не я, а Наденька управляет моей волей. Я слышу это и подчиняюсь. И прекрасно в своей строгости ее лицо. Уже не лицо, а лик…
Обычно я прихватывал с собой книгу. Я не плыл, а нес ее над собой. И когда мы потом раскрывали ее, на страницах влажнели пятна. И Наденька бережно расклеивала страницы пальцами. Ей нравилось, как я читаю вслух. И мы с ней прочитали в тот месяц «Дон Жуана» Байрона, два томика песен Беранже, сборник «Крушения» Верхарна и замятые, ветхие книжечки стихов Цветаевой и Ахматовой, которые открыла мне Наденька…
Грохнув, закрывается дверь — вернулся Ленька Щербатов. Его койка через две от моей, однако и ко мне доходит забористый табачный дух. Ленька сбрасывает сапоги, зевает и складывает квадратиком кальсоны. Без такой укладки его в любое время разбудит дежурный офицер и заставит сложить обмундирование как положено. А сегодня дежурит капитан Яворский. Этот все проверит. И как стоят сапоги, и развешаны ли портянки по установленному порядку. И в классах будет пыль искать на каждой парте. И в парты заглянет: сложены ли учебники. Его избегают все. У него нет любимчиков. Как заскрипит своим голосом! Не человек, а механизм какой-то. Его не разжалобишь.
Лежать в кровати и не спать — утомительно. Я поднимаюсь. Натягиваю кальсоны.
— Ты там поосторожней, — говорит из темноты Ленька. — Яворский уже замел Витьку Бахметьева. Две недели неувольнения.
— Смоемся, — отзывается со своей кровати Сергей Юферов. — Есть запасной вариант.
Этот запасной вариант — крыша соседнего дома, она вровень с нашим окном в сортире. И все, кто лишен увольнения, по карнизу перебираются на эту крышу. Карниз в две ступени шириной. Какой же грохот в том доме, когда по железной крыше стучат одни сапоги за другими!
Я вступаю в свои кирзовые сапоги сорок седьмого размера и шагаю в ротный сортир. А в спальне уже диспут. Обсуждаются наиболее безопасные способы возвращения из самоволки.
После отбоя положено только лежать. И лишь передвижение в сортир не считается нарушением внутреннего порядка. За тишиной и пустотой ротных помещений следят офицеры и сержанты.
Обычно кальсоны спадают или едва сходятся на поясе: это уж как кому пофартит. В бане их выдают из общей кучи, не глядя. Тесемки отрываются после нескольких стирок, и их никто не пришивает. У большинства кальсоны просто завязаны узлом на животе. У меня налажена система обмена. Лешка Абаринов и Борька Тужиков — левофланговые нашего взвода, им кальсоны всегда по шейку. С ними почти всегда обмен удачен.
Сапоги гитлеровские, из трофеев — моя гордость. Свастику в фабричном клейме, что внутри голенища, я показываю по десять раз на день — трофей и есть. Их прислали с окружного склада: у старшины Дробышева в ротном цейхгаузе моего размера не оказалось. Эти сапоги Сергунчик называет «военной добычей» и всегда обращается с ними, как с живыми. Он почтительно ставит их на тумбочку и начинает монолог, от которого все гогочут…
Сапоги на совесть подбиты здоровенными шипами и надраены мной. Сергунчик утверждает, что шипы — это со всех точек зрения очень важно, но прежде всего для психологической настроенности военнослужащего. И я лязгаю ими по коридорным каменным плитам, словно ломовая лошадь. Плевать на все наказания. Я иду, осененный законом, в сортир.
В просторном сортире весело и оживленно. Здесь тайком курят дешевые папиросы «Бокс». Ротные остряки расшифровывают это как «божеское одолжение курящим суворовцам». Здесь можно в обществе таких же белых кальсон обменяться новостями и просто поболтать.
— Эй, кошкодав! — окликает меня из раздевалки Юрка Новоселов. У него вздернутый нос и пышный чуб над бровью. Он плутовато улыбается.
Я задерживаю шаг и шепчу ему:
— Пижон толстопятый!
Юрка из Пензы.
Читать дальше