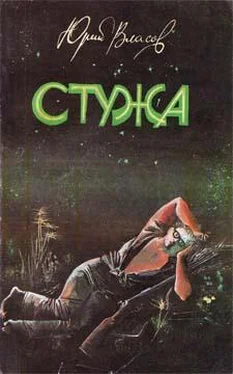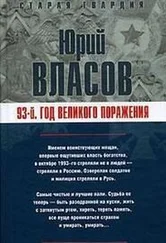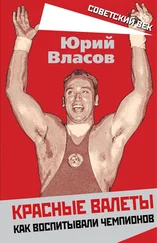Я то мокрел, то застегивался наглухо. Мы часто останавливались, и я ждал, пока пот уймется. Проклятая слабость!
От трамвайного депо, разухабисто гремя на стыках, набирал скорость одновагонный трамвай. Я следил за ним и никак не мог внять почему. Наконец догадался: несуразность — с площадки сзади хлещет вода. Трамвай — и вода?!.. Трамвай поравнялся. В середке вагона сидела пожилая женщина, зябко притулясь к окну, а на задней площадке торчал плечистый малый с сигаретой в зубах и деловито мочился в дверь. Мы замерли, провожая трамвай. Это же не вагон — это целый символ эпохи, своего рода знамение времени…
— Когда Паганини заканчивал выступление, — заговорила вдруг Лариса все так же шепотом, но с горячностью, — он без промедлений исчезал: как можно быстрее добраться до кресла. Он обмякал, закрывал глаза — никаких признаков жизни. И руки… бессильно свисали к полу. Это пугало близких, они так и не могли привыкнуть: их Паганини казался мертвым. И они окликали его, трогали — настолько глубоким оказывался этот уход жизни из него с талантом звука, страсти звука: человека нет — лишь безжизненная оболочка его.
— Это же Паганини, Ларик, а я просто устаю. Ни одно слово не получается безразличным. И еще зал — как бы сплавляюсь с ним, воспринимаю малейший перелив настроения. Это обессиливает.
— После выступлений тебя не узнать, даже кровь надолго уходит с лица. Я всякий раз пугаюсь. Знаешь, бывает человек уставший, а бывает… истраченный человек; не знай я, с каким темпераментом ты завтра разрядишься в новом выступлении, я приняла бы любое твое выступление за последнее… С каждым словом из тебя уходит жизнь, дробится — и уходит… Господи, тебе надо писать — и никогда не выступать! Твое назначение — писать, а ты здесь стираешь себя; после такой жизни, какая была у тебя, это недопустимо.
— Не я же назначаю условия игры. Нам надо жить, а заработка нет. Он будет, но пока нет.
— У меня болит сердце, не могу видеть: ты ведь лишен покоя, и не только здесь, а все последние годы, особенно последние месяцы: без дома, без угла… А люди? Не сделаешь чего-то, не в состоянии выполнить просьбу — и уже ненависть, боль! А сколько их — они не думают! Хоть убегай — и прячься, изменяй лицо… Кстати объясни, почему за два дня до нашего приезда сняли бронь в гостинице «Ленинград»?
— Э-э, у нас ведь есть номер.
— Есть, но ты все же объясни, почему вдруг сняли бронь?
— Напрасно ты это принимаешь к сердцу. Мелочь это.
— Нет, ты объясни.
— Во-первых, не сняли, а отняли. Номера вообще могло не оказаться. Ладно, что на улице не остались. Во-вторых, и это главное, надо выступать в угодном духе, всею жизнью угождать тем, кто распоряжается нашими жизнями и кто не хочет с этим правом расставаться. В известных условиях они способны и физически убрать неугодного человека или злостно оклеветать в газете, по телевидению. Это уже делали, и со мной тоже. К сожалению, мы лишены возможности отвечать.
— Да, ты не их, это верно. У нас, чтобы даже редчайший талант получил признание, следует умереть. Зароют в могилу — и пошли кадить, присваивать премии, лить слезы. Да если бы Владимир Высоцкий слышал о себе то, что сейчас говорят, он не умер бы. Ни за что не умер бы! Значит, сгубили! Сгубили, а теперь музей открывают — как же трогательно! Это точно, убивают не только ножом из-за угла или каторгой… Высоцкого сгубили крохотностью жизненного пространства, в котором он бился. Вместо беспредельности пространства, естественного исхода таланта, страсти — унижения, невозможность встать перед народом в свой подлинный рост, жизнь на зажатом дыхании… Алкоголь — это ерунда, тут главное другое. Пойми, такое внутреннее напряжение разрушает, не может не привести к смерти. Тут все по накатанной дорожке. Однако Высоцкому, если позволительно так выразиться, «повезло». Он вернулся к нам сразу после смерти: живы все, кто любит и ценит его. А другие? Те, что в земле… Сколько лет я помню притчу: батрак спас помещика и тот поклялся исполнить любое желание бедняка. Десятки лет тому снилось одно и то же: горячая бататовая каша. Он и попросил сварить… семь горшков. Хоть раз наесться… Помещик не обманул: приехал за ним и увез к себе. Перед бедняком поставили семь горшков бататовой каши. Сколько же в мечтах он видел ее! Но даже малой части ее он не смог съесть… Так во всем. Когда жизнь истрачена на борьбу за право воплотить мечту в реальность строк, музыки или красок — даже когда она все же сбывается! — сил уже нет. Их стерло, уничтожило преодоление среды. Ведь в этом мире вознаграждаются вовремя лишь покорность и… бесцветность. Бесцветность никогда никому не угрожает. Она вроде половичка под ногами…
Читать дальше