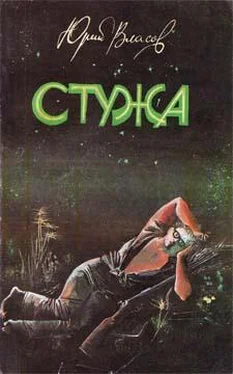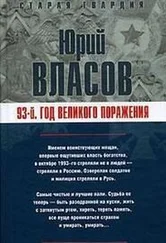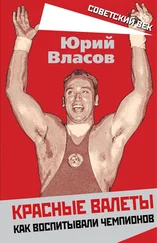…Ура — билеты! Я три дня возвращался без билетов. Я даже приезжал к четырем утра — все равно на площади у вокзала роилась толпа, такая же черная и руготная. Она и не рассасывалась. И сыскать ее конец невозможно, а если сыщешь, то все равно очередь не движется, а, наоборот, как-то толстеет, упрочается. После первого сентября — начала занятий в школах — уехать просто, но сейчас это почти невозможно. Билетов меньше, чем людей. Я бы подождал, однако первого сентября в восемь утра я должен явиться в строй…
Мама промокает платком виски. Ей не по себе оттого, что она имеет дело с властями и дело незаконное. Паспорт уже как три года не действителен. Достаточно посмотреть на числа. Но начальник не посмотрел. Уверен, за всю свою жизнь он впервые видит такую книжицу. Под ее магией он приносит два билета, да еще в мягкий вагон. Quel dommage que vous ne parliez pas français!.. [7] Как жаль, что вы не говорите по-французски!.. (Фр.).
Фраза готова сорваться с языка. Я улыбаюсь. Мне очень приятно. Все так славно. Начальник даже сам принимает плату, дабы не обременять знатных визитеров.
Я плачу, собственно, за один билет. У меня — воинский, бесплатный. Нужно лишь доплатить за проезд в мягком, сущие пустяки. Славно, когда начальники не интересуются цифрами. Впрочем, там такие гербовые печати, такие штемпеля виз — осилят и не такого! Ах, семенной огурец, семенной огурец…
Пока я отсчитываю рубли, мама прячет диковинный паспорт. Начальник вокзала не ведает, как себя вести, и на всякий случай помалкивает. Я тоже молчу.
У начальника недоброе, багрово-загорелое лицо, на которое он тщится напустить любезность; голубая рубашка на зыбко-пухловатой груди темновата по́том; брови белесы, а сам он короток и рыхловат, будто налит в брюки… Nous vous remercions de votre aimabie attention! [8] Благодарим вас за любезное внимание! (Фр.).
— Большое спасибо, — говорит мама.
— Обращайтесь, рад услужить.
— До свидания.
— Счастливого пути… Не надо, не надо — я дверь на крючок. Народ — хам! Прет! Охамел теперь человек!.. Да, да, счастливого пути…
Лицо начальника совсем рядом: по-бабьи безволосое, мягкое, из множеств подбородков — и все в мутноватой потной водице. От него разит смесью одеколона и водки. Этот букет Костя Леонтьев называет «мужская честь», правда, не хватает табачной отдушки.
Мы затворяем дверь. Жарко, бесцеремонно налегают тела. Мама прижимается ко мне сзади, а я пядь за пядью пробиваюсь к выходу. Глухой низкий гул почти лишает слуха. Воздух кисл по́том. В коридорах, на лестнице и помещениях совершенно нечем дышать. Мокрые лица, мокрые руки, плечи… И еще табак!.. Я ненавижу табак.
Какая-то женщина взвизгивает: «Бык!» Я краснею, в то же время мне обидно. Я ступаю осторожно, умеряя капор толпы.
— Бык! Бык!.. — У женщины белые, блестящие глаза, отчего взгляд кажется слепым, и банно-красные пятна по лицу, оголенной шее, верху груди. А на самом лице какая-то сухая, жесткая судорога, истеричная отрешенность.
— Ничего, сынок, ничего…
— Бык!.. Сволочь стоеросовая!.
— Господи, что она?..
Впрочем, я привычен. В войну мама маялась туберкулезом, и очереди выстаивал я: многие часы среди плевков, матерщины, махорочного дыма и давки. Я был по-детски маловат ростом, и меня душили… вонючие спины. Они действительно были вонючие. Одежда стоила невероятно дорого. Бани не работали. В домах — холод: каждая комната отапливалась самодельной печкой. Помыться — целая история, так же как достать мыло для стирки. И очередь именно воняла, и чем ниже ты находился, тем внятнее был запах. И еще воняла вода. Снег стаивал, и по щиколоть стояла вода. Черная, густая жижа… С этими запахами свыклись и относили их к естественным. Хуже, когда я из очереди приносил вшей. Досмотр мама устраивала на кухне: волосы, все складки и швы…
Часто в очереди мне едва хватало дыхания: взрослые тащили меня, стиснутого, полузадушенного. Но непременного озверения давка достигала у входа в магазин, здесь толпа вминалась в одну створку двери и следовало держаться любой ценой, иначе тебя просто вышвыривали, что и случалось со мной не раз. Я достиг такой цепкости — меня скорее можно было растоптать, но только не вырвать из очереди, хотя одна рука всегда была занята: я держал в руке карточку. Ведь именно в этот момент начинали шуровать карманники. Им не стоило сопротивляться — они «писали» бритвами, однако на карточку я не позволял посягать никому. Я держал ее намертво. Без нее нам если не смерть, то лютый голод… И все же однажды, когда уже другая толпа вышвырнула меня из электрички, я заплакал. Электричка останавливалась у станции Покровское-Стрешнево. Все в войну спешили — с трамваев, поездов, автомашин спрыгивали на ходу… Я сел в Павшино и поневоле оказался у двери. Толпа наперла и как будто выплюнула меня на перрон.
Читать дальше