Когда Колин вышел наружу, сияло солнце и ветер дул с полей ему в лицо. Одни дети столпились у дверей церкви, ожидая старших братьев и сестер и подбирая конфетти, оставшиеся после свадьбы накануне, другие побежали вниз по склону мимо Парка к поселку.
Батти все еще сидел на качелях, а Стрингер стоял сзади и раскачивал его.
— Эй! — крикнул Батти, и Колин вошел в калитку. Несколько учеников воскресной школы уже стояли возле качелей и карусели, дожидаясь разрешения Батти.
— Эй, — сказал Батти. — И часто ты туда ходишь?
— Сегодня в первый раз, — сказал он.
— А кто тебе велел? Твой старик?
— Нет, — сказал он.
Батти кивнул и сказал:
— Ладно, Стрингер, хватит.
Стрингер схватил цепи и остановил качели.
Батти спрыгнул на землю, а Стрингер сел, снял башмак и сунул руку внутрь. Его босая подошва чуть ниже большого пальца была вся в крови.
— А что вы там делаете? — спросил Батти. — Про бога разговариваете?
— Да, — сказал он.
— Мой старик, — сказал Батти, внимательно в него вглядываясь, — верит в бога. — Он продолжал смотреть на него, но ничем не подкрепил своего утверждения, а потом повернулся к детям у карусели. — Кататься пришли?
— Да, — сказали они.
— Ладно, — сказал он. — Пять минут.
Стрингер надел башмак и снял другой. На скамье в дальнем конце Парка сидел сторож, старый шахтер с деревянной ногой, и читал газету, положив деревяшку на соседнюю скамью.
— Эй, Жирный! — крикнул Батти, увидев Блетчли. Он шел чуть позади мистера Моррисона и нес его Библию. Рядом с мистером Моррисоном шла красноглазая женщина.
Блетчли не обернулся и по-прежнему смотрел на мистера Моррисона и на женщину.
— Эй, Стрингер, — сказал Батти. — Ты же собирался вздуть Жирнягу Блетчли.
— Да, — сказал Стрингер и, сморщившись, натянул второй башмак.
Теперь по воскресеньям у Колина совсем не оставалось свободного времени. Отцу выдали форму, когда ноги у него были еще в гипсе, и хотя он тогда с горьким смешком говорил матери, что формой-то его снабдили, но надеть ее ему уже никогда не доведется, и, разложив ее на кухонном столе, поглаживал, точно собаку, теперь утром по воскресеньям он в форме шел через поселок бодрым шагом, совсем не прихрамывая, и на рукаве у него красовалась нашивка, которую он недавно получил, возможно, из-за своих переломов. Колин шел рядом с ним или чуть позади и катил перед собой коляску. Исполнение этого долга соединялось с двумя несомненными удовольствиями — он смотрел, как отец участвует в учениях, и исследовал старый дом. После обеда он шел в воскресную школу, и только после чая у него выпадал свободный час.
Он почти не замечал малыша, который уже научился сидеть и во время прогулок невозмутимо смотрел по сторонам большими голубыми глазами, а иногда махал ручонками. Дома он сидел на полу, переворачивал игрушки, тянулся к какой-нибудь, пытался встать, падал и принимался плакать, лежа на животе. Мать теперь приучала его держать ложку, и каждое утро его торжественно сажали на горшок.
Отец с тех пор, как снова начал работать, как-то приутих. По вечерам он иногда еще выходил на пустырь играть в крикет, но чаще сидел в кухне у стола и рисовал.
Он принес домой большой блокнот в клеточку, черный карандаш, деревянную линейку и резинку. Когда он раскладывал листы на кухонном столе и начинал рисовать, его щеки надувались и краснели, особенно если он ошибался, и, прикусив язык, стирал неверные линии, а потом смахивал ребром ладони бумажные катышки.
Сначала было неизвестно, что он рисует. Кончив, он убирал листы в ящик и каждый раз напоминал матери, чтобы без него к ним никто не прикасался. Однако потом, когда он стал стирать гораздо меньше и уже надписывал рисунки, иногда спрашивая, как пишется то или иное слово, и чертил жирные стрелки от одной стороны листа до другой, он объяснил им, что это — изобретение, которое он придумал на работе. Наклонив голову набок, он оглядывал листы, прищурившись и медленно облизывая нижнюю губу, потом разложил их на столе, осторожно нагнулся и поставил на каждом в верхнем левом углу номер — от первого до шестого.
Первый рисунок изображал стоящий на земле самолет. Это был бомбардировщик; и на правом и на левом крыле было тщательно нарисовано по мотору. Под самолетом лежала большая бомба, а рядом — свернутая кольцами толстая цепь.
На втором рисунке тот же самый самолет взлетал. Жирные штрихи по краям листа показывали, что это происходило ночью, и между штрихами были аккуратно размещены звезды и большой месяц, словно прищуренный глаз. Отец рисовал не очень умело: одно крыло довольно беспомощно задиралось от фюзеляжа вверх, несмотря на множество полустертых попыток исправить эту несообразность, а крутящийся пропеллер одного из моторов был почти таким же большим, как само крыло.
Читать дальше
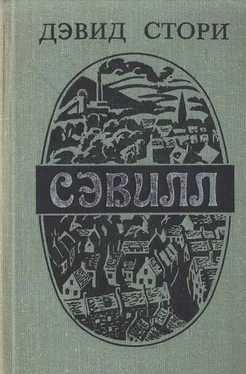




![Владимир Абрамов - Доппель стори [СИ]](/books/401774/vladimir-abramov-doppel-stori-si-thumb.webp)






