— А синяк под глазом? Под тем, который у него болит? Который на войне осколком зацепило? Синяк-то вы ему поставили?
— Может, и я. Только без умыслу. Сунулся он, понимаешь, не в свое дело. А я в то время руками махал. Пьяный… Вот и… синяк. Он, батька-то твой, рубаху мне порвал. И вообще — сопротивление оказал. Ну да я не в обиде. У Тараканихи чего только не бывает… По выходным и праздничным дням. А тут и вовсе причина веская: День Победы. Мой праздник. Передавай, стал быть, привет Алексеичу. И — бывай. У меня после вчерашнего с животом не все в порядке…
Проследив, когда Голубев Автоном будку покинул, Павлуша, все так же крадучись, вернулся на место несостоявшегося взрыва, извлек из ямы заряд и, держа его на отлете, как дохлую крысу, припустил полем обратно в лес.
Павлуша не уловил, с какого именно момента расхотелось ему взрыв на огороде у председателя производить. Скорей всего — после занозы. После девочки голубенькой. И еще — раны повлияли, те, что у Голубева имеются.
Тропа, которая уводила в глубину леса за ягодой и грибами, пренебрежительно огибала трухлявую сараюшку, некогда дымившую высокой трубой обжигной печи. Завод, прежде стоявший на расчищенной поляне, теперь наглухо оброс матерым лесом. Колея, по которой в свое время вывозил Яков Иваныч каленый кирпичик в город, теперь тоже напрочь слиняла, и, если бы не «партизанский» азарт Павлуши, не отыскать бы ему заводика.
Неожиданно из-за дерева, как из-за отцовской спины, вышел на тропу Сережка Груздев, жилинский сиротка, столь отчаянно липнувший к городскому Павлуше со своей дружбой.
— Ты что?! — уперся Павлуша свободной от «мины» рукой в худенькое плечо Груздева. — Напугал, карлик…
Белобрысый, долгоносенький, разукрашенный крупными хлопьями веснушек, Сережка поначалу изрядно оробел, голова его так и осела в плечах, но серые камушки глаз своих от лица Павлушиного не отвел, смотрел преданно и безвинно.
— А я тебе… тайну одну рассказать хотел. Я тебя везде искал. И в школе, и в поле, и на кирпичном заводе.
— Какая еще тайна?
— Побожись…
— Чего-чего?
— Ну, что не скажешь никому… Пообещай.
— Зуб даю. Или нет: век свободы не видать. Или вот так еще лучше: сгнить мне на этом месте! Теперь веришь?
— Верю, верю… Нельзя много божиться, грех. Язык отсохнуть может, мне бабушка говорила.
— Сам просил… Ну, чего там у тебя, выкладывай! Какая тайна?
— Про нашу Олю… Только ты никому, пожалуйста. Ее ведь милиция ищет. Все говорят: убили ее… бандиты. Убили и закопали в лесу. А сумку с письмами на сучок повесили. Для отвода глаз. Так все неправда, Павлуша. Оля наша в город ушла. Учиться… Как Ломоносов! Я знаю, она в ремесленное училище подалась. Одному только мне и сказала. По секрету.
— По секре-е-ту! — передразнил Груздева Павлуша. — Первому встречному все вытрепал. Вот и понадейся на тебя.
— Так я ж тебе только. Из уважения…
— Все равно — нельзя! Некрасиво, понял? Предавать.
— Так я же…
— Как я тебе после этого свою тайну открою? — Павлуше очень хотелось похвастать перед Сережкой, как он из колонии драпанул. Теперь же, после того как Грузденыш про Олю свою натрепался, доверять ему расхотелось, однако и обижать мальца недоверием вряд ли стоило. И тогда Павлуша вспомнил о взрыве, который готовил все эти дни. — Вот и подумай, Серёня, как я тебе тайну свою открою, ежели ты ее моментально какому-нибудь Супонькину выдашь?
— Не-е! Не выдам. А какую тайну?
— Каку-у-у-ю… Любую. Говоришь, на кирпичном заводе был?
— Был, тебя искал.
— Веди меня туда. На кирпичном заводе старик Бутылкин золотые деньги закопал. Двадцать монет. Вот какая тайна. Найдем денежки — золотые зубы повставляем! Фиксы. Тебе десять штук, и мне десять. Вон у тебя переднего нет, да и все остальные — не ахти… Вкривь да вкось. А золотые не гниют. Хоть сто лет ими хлеб кусай.
— И сухари?
— А хоть гвозди! Двигайся, не рассуждай.
Пробирались к заводу скрытно, играя то ли в разведчиков, то ли в разбойников-уголовников. Последние метры, уже когда замшелый сруб сараюшки разглядели сквозь заросли малинника, ползли на животе по-пластунски. Солидные деревья вокруг завода не росли; здесь угадывалась заглохшая одичавшая поляна, на которой вымахали крушина, ржавый на сломах ольховый кустарник, а также стройные побеги дикого ореха лесного; безукоризненные его прутья почти безо всякой обработки годились на удилища.
Внутри полутемного, дырявого как решето сарая не было пола. Из земли по углам помещения росла молоденькая бледная крапива. Посредине высилась бесформенная груда древнего кирпича, от которой прямо в дырявую крышу уходила такая же кирпичная, обглоданная временем почерневшая труба.
Читать дальше
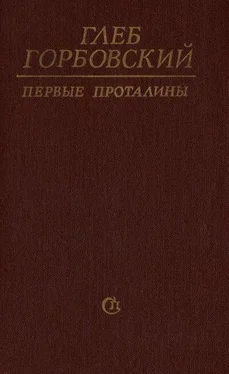

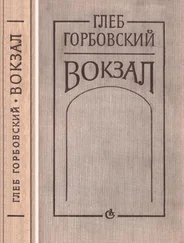




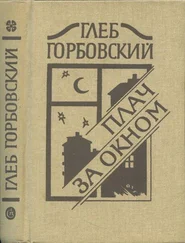



![Глеб Кондратюк - Первые изменения [калибрятина]](/books/388921/gleb-kondratyuk-pervye-izmeneniya-kalibryatina-thumb.webp)
![Глеб Кондратюк - Первые изменения [СИ]](/books/435087/gleb-kondratyuk-pervye-izmeneniya-si-thumb.webp)