Пошел тогда отец наружу из дома, с крыльца на завалинку переместился. Ногу на ногу закинул. Очень, видать, захотелось ему нынче побренчать, помурлыкать.
Счастливые годы,
веселые дни,
как вешние воды
промчались они…
Конечно, на улице перед школой получалось у Алексея Алексеевича иначе, нежели в коридорчике. Проще, элементарнее. Пел человек, развлекал себя и рядом присутствующих. И только. А в коридорчике-то, когда вокруг никого или одна всего лишь старая Лукерья на кухне вздыхает, печально, с надрывом получалось. Поет человек, будто плачет, лебединой жалостью жалея свои оставшиеся там, в недавней молодости, светлые годочки. А если воображение настойчивое иметь, то и нечто более обширное, нежели коридорчик с одним невеселым человеком, представить можно, — скажем, все человечество на небольшой круглой земельке этак-то вот сидит и грустит перед необъятной вселенной, сердечные струны бытия своего перебирает…
Но сейчас, сегодня все совершенно иначе выглядело и звучало иначе. С неким задором, с ухмыльцей некоторой получалось у отца нынче. Хотя он и голову, как прежде, лирически запрокидывал, и глаза под очками пытался закатывать.
В глубокой теснине Дарьяла,
где роется Терек во мгле,
старинная башня стояла,
чернея на темной скале…
Под эту романтическую кавказскую историю из школы выпорхнула пружинистая, ловкая, в короткую узкую юбку переодевшаяся «порченая» Евдокия. Похоже, заинтриговал ее аккуратный бритый отшельник, напевавший домашним довольно грустным тенорком не те, лежащие на слуху, песенки в исполнении Нечаева и Бунчикова, а нечто дымчатое, старорежимное, то есть как бы историческое, а значит, и драгоценное, антикварное.
Мой костер в тумане светит,
искры гаснут на лету…
Ночью нас никто не встретит,
мы простимся на мосту.
И вдруг, на ходу сворачивая богатырскую цигарку, заскрипел крыльцом инспектор Арцыбашев. Закурил с двух спичек, выдохнул «философски» облако зловонное и чистый вечер, как в глаз ребенку, и, громогласно кашлянув, словно мотор внутри себя пытаясь запустить, демонстративно направился через школьный двор к туалетной будочке.
А Павлуша, забравшись на печку, отгородившись от людей дырявой тюлевой занавеской, травил в себе болячку сиротства, жалел себя, скучал, подставляя под едва долетавшие сюда звуки песен свое уязвленное отцовским весельем самолюбие. И вдруг мать вспомнил свою, Машу. Совсем молодую, довоенную, другой-то он ее и не представлял, потому что не видел. «Вот такая, как Евдокия… Только красивее, нежнее. У Евдокии нос кверху задран». И вдруг сверчок за печкой — в переборке деревянной — свою, ручейком журчащую, музыку сочинять начал. Монотонную, безнадежную, умиротворяющую. А Павлуше не мира — шума, грохота хотелось! Улицы, трамваем разрезаемой вдоль! Со скрежетом. Кипеть в пешеходном котле… И тогда он пяткой изо всей силы в переборку двинул. Сверчок погас. Но через минуту, наивная, необидчивая, опять заструилась его музыка.
В жнлинской школе Павлуша объявился в отсутствие отца: учитель по средам ходил в Гусиху за хлебом, где был прикреплен к сельповскому магазинчику.
Павлушу долго целовала, тискала, всего оросила слезами радостными мягкая, светлая тетушка Лукерья. После чая посадила его, настывшего, мартовского, на горячую печку, задернула занавеску, стала ждать, когда племянник с дальней дороги в сон теплый провалится. Мальчик быстро уснул. Правда, во сне он вздрагивал иногда, бормотал и даже всхлипывал; сон его был тревожным, нервным, не детским, хотя и глубоким, как бы обморочным. Лукерья в щель занавески жалостливо рассматривала племяша. «Господи, дите хлипкое, невинное, херувим писаный, а ну-тко, хлебнуть пришлось всякого… По дорогам-путям наблукался. Небось жизни не рад».
Потом пришел отец и отдернул занавеску нетерпеливо. И сына увидел. Долго, дольше Лукерьиного, смотрел на дитя свое утраченное, затерянное в мешанине людской, подхваченное потоком в воронку событий военных.
Павлуша разлепил ресницы, увидел отца. Казалось, обмякнуть, подтаять должно было сердечко его неокрепшее, но, остекленевшее на лютом холоде разлуки, зазвенело лишь, будто хрустальное, в груди. Ему бы слезами светлыми, сладкими из глаз истечь… Но заплакал не сын. Отец заплакал. Правда, слез его никто не увидел, потому что за синими очками прятались.
Шестилетним золотоголовым, солнечным запомнился ему сын. Уходил тогда Алексей Алексеевич ночью, целовал Павлушу спящего, розового от сна и тепла материнского. Павлушина мать, убитая совершавшейся разлукой, стояла тогда у окна в длинном, наглухо спрятавшем ее халате. Раздвинув тюлевый туман занавески, уперлась она горячим лбом в холодное ночное стекло окна и смотрела в непроглядную неизвестность. Тюлевый туман сошелся позади нее и плотно заслонил ее от глаз Алексея Алексеевича.
Читать дальше
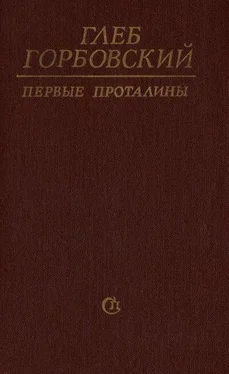

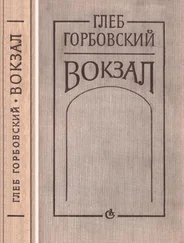




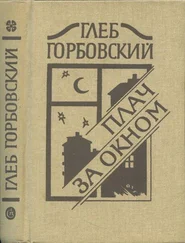



![Глеб Кондратюк - Первые изменения [калибрятина]](/books/388921/gleb-kondratyuk-pervye-izmeneniya-kalibryatina-thumb.webp)
![Глеб Кондратюк - Первые изменения [СИ]](/books/435087/gleb-kondratyuk-pervye-izmeneniya-si-thumb.webp)