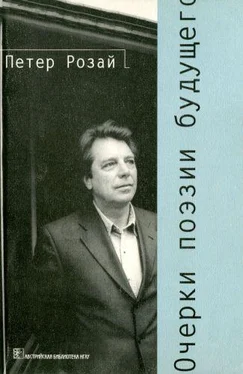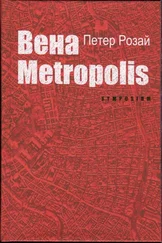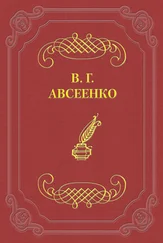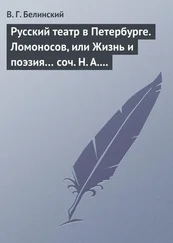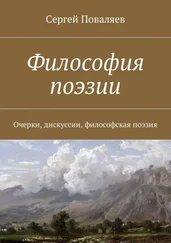Первичное ощущение, когда посмотришь вокруг незащищенным глазом, — это полнейшее «тохувабуху», хаос. Чтобы от него защититься, мы всегда держим наготове целый арсенал упорядочивающих моделей, своего рода клеток или сетей, с помощью которых мы пытаемся обуздать действительность, не знающую ни цели, ни правил, проносящуюся мимо нас, хрипящую от напряжения.
Эту операцию усмирения художник должен приберечь под самый конец. Надобно позволить, чтобы действительность буйствовала вокруг как можно дольше, необузданная и дикая, надобно бесстрашно смотреть на ее буйство; уметь отрешиться от своего знания. Отложить в сторону свою способность суждения. Художнику надлежит двигаться туда, где начинается отчаяние, позволить вещам развиваться в направлении кризиса.
Ничего нет хуже, чем готовые решения, предопределенные идеологическими клише; но так же неприемлемы и заранее заготовленные эстетические формулы — вроде того, когда говорят: «Это совсем как у Ван-Гога!»
Люди слишком склонны забывать, что то, что Ван-Гог видел как Ван-Гог, мы видим так, как видим это именно мы: оно серое, пестрое, маленькое, жалкое, покосившееся от ветра.
Нет, я не собираюсь впадать в героически прямолинейную рабулистику. Это, скорее, для Томаса Бернхарда. Мне всегда больше импонировал хитроумный Одиссей, а не отважный, но простоватый Ахилл. Должен ли художник всецело отдавать себя на волю действительности, без сопротивления, подавляя классифицирующую мысль, до последней возможности, до ощущения плененности, когда уже никуда не деться? Нет, этого я не говорю.
Я — сторонник двойной игры.
Слабость, которую я питаю к Одиссею, носит характер амбивалентный: С моей точки зрения, Одиссей окружен лучистой аурой расчетливости. И я тоже, почти что вопреки своей натуре, приучился думать с расчетом; правда, до этого, с самого начала я был как яростный Ахилл, который должен идти на бой и сражаться.
Меня закалили жестокие войны; я к битвам пригоден и в битве хорош,
— писал я весьма наивно и хвастливо в одном раннем стихотворении. Не то чтобы стихотворение было плохое, но оно кажется мне слишком поверхностным. Правда, я всегда испытывал восхищение перед творцами великих систем — будь то Кант, Гегель, Маркс или, скажем, Фома Аквинский, — но мне приходится следить за тем, чтобы в уголках моих благоговейно сомкнутых губ не затаилась предательская усмешка.
Для поэта знание — всего лишь субтекст, пусть даже и немаловажный.
Поэту свойственно удивляться; он не разучился испытывать удивление.
Поэт забывает то, что он знает.
Когда работаешь, то движешься между двумя полюсами: абсолютного порядка и абсолютного беспорядка. Следует не терять из виду оба полюса, видеть их одновременно. Чем сильнее напряжение, которое выдерживаешь, тем насыщеннее твое произведение.
Это как облако из слов, написал я когда-то неточно, но довольно наглядно, облако, из которого в один прекрасный момент выпадают единственно нужные слова.
Да, хрупкость — вот что представляет огромную ценность для художника.
1. Когда Шумпетер говорит о том, что блистательная ошибка предпочтительнее банальной истины, он не учитывает, что это не что иное, как тривиальные истины, или иначе говоря: имманентность образует «ход вещей».
Это столь явно элитарное пристрастие к исключительному, лежащему в стороне от проторенных дорог, к невероятному, это для меня нечто очень австрийское, я нахожу, что этот кавалерийский стиль мышления отнюдь не уводит от цели; и достоин любви.
В том же направлении ведет следующее замечание Витгенштейна: «Я думаю, что истинно и по-хорошему австрийское (Грильпарцер, Ленау, Брукнер, Лабор) особенно трудно понять. Оно в известном смысле утонченнее, чем все иное, и правда, ему присущая, никогда не на стороне правдоподобия».
Кстати, в этот ряд можно было бы включить и Моцарта — или Музиля — или Фейерабенда.
Но что такое правда в художественном произведении, как не ожившее правдоподобие?
Политическая отсталость Австрии в XIX и начале нашего века во всем том, что касается демократии и обусловленного ею бюргерского самосознания, несет, возможно, ответственность за ту черту аристократизма, которую мы видим у многих артистов духовной жизни, выступивших на сцену в те времена; не было бы счастья, да несчастье помогло — вот почему в австрийской культуре почти совсем отсутствует элемент трезвой деловитости, сухого систематизма; или ссылки на common sense.
Читать дальше