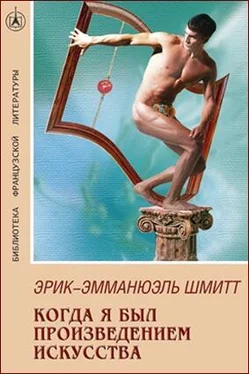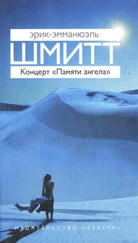Я собрал сброшенную одежду и, морщась от боли, натянул ее на себя.
— И потом, сейчас никакой хирург не согласится оперировать меня. Мы должны для этого выиграть процесс.
— Да, это так, — вздохнул Кальвино, понурив голову.
Я тщательно вытер кроваво-гнойные пятна с пола, а обломки сономегафора спрятал в карман.
— Вы ничего не видели. Я абсолютно здоров. Уверен, что дотяну до процесса.
32
День судьбоносного судебного процесса приближался.
Те несколько часов, когда я позировал в выходные дни по договоренности с хранителем музея, с каждым разом давались мне все труднее и труднее. Хитрому Кальвино удавалось передавать мне тальк и тональный крем, благодаря которым я скрывал под слоем грима воспаления и вскрывшиеся раны. Что же касается лихорадочной дрожи, регулярно сотрясавшей мое тело и которой невозможно было управлять, то, к счастью, на нее никто особо не обращал внимания.
Фиона в первые дни навещала меня. Тихо проскользнув в зал, она молча стояла, прислонившись спиной к стене, и издали смотрела на меня, положив руку на свой круглый живот. Она стояла, не двигаясь с места, словно не в силах сделать шаг вперед, преодолеть те несколько метров, что нас разделяли. Для меня эти безмолвные свидания также были невыносимы, это было выше моих сил. Между нами стояла незримая стена, возведенная положением, в которое мы попали: я — неодушевленный предмет, она — живое существо, вокруг нас — вооруженная охрана, перекрывшая все выходы, толпа посетителей, рассеянных или изумленных, сменявшие друг друга гиды, заученно и монотонно объясняющие мое особое место в истории современного искусства, — вся эта обычная музейная суета, которая мешала нам вернуться к той темной ночи, укромной, далекой и запретной, к тем дорогим для нас моментам близости, когда мы исступленно любили друг друга и когда был зачат наш любимый ребенок. Перегородка в тюремной приемной меньше разделила бы нас, чем эти несколько метров паркетной пустыни, разверзшиеся между нами. Но и на этом расстоянии я смог заметить капельки слез на краю ее ресниц. Заметила ли она слезы в моих глазах? После трех посещений, таких же безмолвных, она сама прекратила эту пытку. Тем лучше. Я не сомневался, что, подойди она ко мне поближе, она тут же обнаружила бы, в каком состоянии я находился.
Я так жаждал бороться за свою свободу, что стал очень подозрителен. Мое гнетущее настроение в дополнение к разгоравшимся воспалительным процессам лишь усиливало горячку, которая уже не покидала меня. Отдыхая в своей запертой камере, я настороженно прислушивался к каждому шороху, каждую минуту ожидая вторжения Зевса-Питера-Ламы и доктора Фише. Их образы, как наваждение, преследовали меня. Я был уверен, что как только они узнали о моей возможности говорить, они стали строить планы, которые позволили бы заткнуть мне рот раз и навсегда.
То, чего я так опасался, и случилось. Открыв однажды утром глаза, я увидел перед собой Зевса-Питера-Ламу, который широко улыбался мне, обнажив свои в драгоценной оправе зубы. Крик ужаса сорвался с моих уст.
— Ну же, мой юный друг, и это ваша благодарность, так вы благодарите своего создателя? Тс-с… Тс-с… Я, наверное, обиделся бы, не будь выше всего этого.
Мне стало любопытно, с чего бы этот светский тон. Выглянувший из-за его плеча Дюран-Дюран, хранитель музея, все объяснил.
— Господин Дюран-Дюран, — крикнул я, — я не желаю никаких визитов.
— Я не могу помешать художнику видеть свое творение, будь то в зале музея или реставрационной мастерской. Статья восемнадцатая «Положения о государственных музеях», пункт второй.
Я еще сильнее вжался в подушку. С торжествующим видом Зевс-Питер-Лама облизнул губы и уставился на меня набухшими от крови глазами. Так смотрит волк на ягненка перед тем, как сломать тому шею и сожрать несчастного.
— Благодарю вас, друг мой, вы можете вернуться к своим важным обязанностям, — обронил Зевс-Питер-Лама высокомерным монотонным голосом, который так не вязался с извергающим жестокость взглядом.
— Это невозможно, господин Лама.
— Простите, не понимаю?
— Все та же статья восемнадцатая «Положения о государственных музеях», на сей раз пункт третий: «Художник не может оставаться наедине со своим творением с целью недопущения случаев, когда, в силу угрызений совести или под влиянием творческого порыва, он мог бы повредить, разрушить или видоизменить данное творение».
Дюран-Дюран закончил демонстрацию своей великолепной памяти с довольной улыбкой прилежного ученика, и мне почти захотелось расцеловать его за неукоснительное следование милых его сердцу параграфов.
Читать дальше