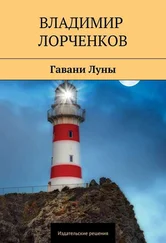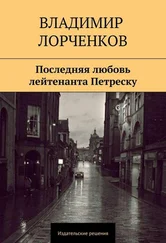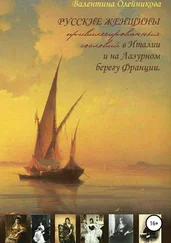В промежутках же между боями
Чтоб забыть про творящийся ад
Подвизается служкою в храме
Возжигателем свеч и лампад.
Он поэтому служит в полиции
Когда мир погрузился в разврат
Что на страже российской традиции
Полицейские только стоят.
Этих слов его строгая сила
Растопила её словно воск
Словно острой стрелою пронзила
И на место поставила мозг.
Поняла как смешно и нелепо
Пропадать среди чуждых харизм
И стянули духовные скрепы
Как струбцины разбитую жизнь.
Проявилась Господняя милость
Опочила на ней благодать
Просветлилась она распрямилась
Как в романе М. Горького «Мать».
И в квартире что дал им Собянин
За эмали утраченный скол
Собирались гулять россияне
За ломящийся свадебный стол.
Непростые случаются вещи
На далёком и трудном пути
Такова уж судьба русских женщин
Наше знамя сквозь годы нести.
И в Госдуме среди депутатов
Я встречал таких женщин не раз
В общежитии жиркомбината
На строительстве «Триумф-палас».
Не задумываясь о карьере
Лишь бы только был счастлив народ
Семинар ведёт на Селигере
И огонь олимпийский несёт.
У французов святая есть Жанна
У пиндосов Мэрилин их Монро
А у нас — россиянка Снежана
До чего ж нам с тобой повезло!
Родилась я в тюрьме. Ничего из тех лет не помню. Песенка только в ушах застряла, вот эта:
Лёнька-Шпонька-говночист
едет на тележке,
а из жопы у него
сыплются орешки!
Может, песенку я сама придумала или услышала где-то позже, хотя мне почему-то кажется, что мама её мне пела, когда меня на руках качала.
В тюрьму мама попала так.
Уехала из деревни в Гомель (захотела городской жизни), устроилась в продмаг продавщицей, проработала с пару месяцев, а там ревизия, вскрывается недостача, и директор, чтобы прикрыть своих, сваливает вину на маму. ОБХСС всё равно, кому под статью идти, а то, что мама ходила с брюхом, — так это им тем более всё равно, перед законом что брюхатая, что горбатая, главное — виновного отыскать. Вот его, виновного, и нашли, даже не одного, а двух — я у неё в брюхе сидела.
Год шёл пятьдесят восьмой, мама молодая была. Думала: ну тюрьма! Чай, в тюрьме не крокодилы, не звери! Живы будем — не помрём, думала. И по животу себя гладила — это чтобы я не боялась. Говорила: перемелется, перетрётся, жизнь, она, как ель на болоте, то на «е», то на «ё» бывает.
Маму что в ту пору спасало — её любовь спасала и вера. Нет, не в Бога, в Бога мама не верила (хотя, может быть, и верила, но немного). Она верила в любимого человека и в тюрьму пошла с лёгким сердцем.
Познакомились они в парке. Был апрель, а погода стояла летняя. Мама шла по аллее, навстречу лётчик — на нём погоны золотые, как в песне, ботиночки начищенные блестят. И сам черноглазый, видный — как в такого не влюбиться? Она и влюбилась.
Константин был парень не промах. Видит, девушка красивая, без подруг. Подошёл, козырнул по-военному. «Можно взять вас под руку?» — говорит. Другая б шуганула нахала: что там у него на уме? Мама — нет, она была девка смелая. В войну, когда немцы в деревню к ним наезжали, она шишки в них бросала из-за куста. Вот и тут, на аллее в парке, мама засмеялась в ответ: «Ещё влю́битесь» — и смотрит ему в глаза. Лётчик вроде бы смутился от этих слов, посмотрел на маму и отвечает: «Мне влюбляться сейчас нельзя». Тогда мама продолжает смеяться и сама берёт его под руку: «А влюби́тесь». Такая была бедовая.
Наверное, всё это от одиночества. У мамы в городе не было никого: ни родни, ни подруг, ни друга — так, товарки по работе одни. Тётя Варя, её сменщица в магазине, когда мама ей рассказала о встрече, возмущалась маминому поступку. «С мужиком так нельзя, — она говорила. — С мужиком отношения надо завязывать».
Мама отношения и завязала. И в такой завязала их узелок, что в декабре у неё родилась я.
Ромашку в Белоруссии называют «зáмужка», по ней девушки гадают себе о муже. Как в России «любит-не-любит», так в Белоруссии «возьмёт-не-возьмёт», женится на девушке иль не женится. Вот и мама, уже беременная, гадала на ромашке о своём лётчике. И всё время получалось «возьмёт».
Константин, а ласково — Костенька (фамилия его была Ржига), любил её, чего уж там говорить. С матерью своей познакомил, они в лётном городке жили. Моя мама была с ним счастлива, и на танцы они ходили в клуб, и вечерами по набережной гуляли. Мама часто потом рассказывала, что каждый раз, когда он её встречал, он делал таинственное лицо, громко говорил: «Алле-гоп!» — и, как фокусник Аркашка какой-нибудь, вынимал откуда-то из-под кителя маленький букетик цветов. Маргаритки, незабудки, фиалки — букет был мятый, но для мамы, к нежностям не привыкшей, он был богаче всех букетов на свете.
Читать дальше