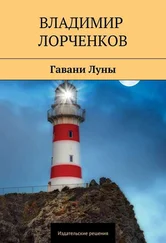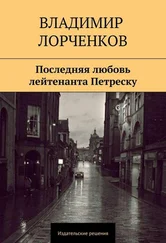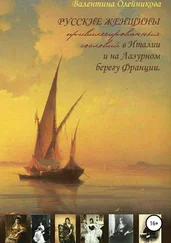— И ещё, — сказала Стёпина мама. — У неё очень тяжёлый взгляд. Знаете, такое ощущение, как прицеливается в тебя…
Добрейший Марк Наумович кашлянул в кулачок.
— Это неудивительно, — отвечал Марк Наумович. Затем Марк Наумович замолчал. Марк Наумович невыносимо долго разглядывал в окно серятину питерской осени: голые, словно только из душа, дворовые деревца, гнусные охтинские однотипные хрущёвки, которые со всех сторон совершенно по-хулигански зажали в круг нашу серую безнадёжную школу (кумачовый плакат «Знание — сила» над её крыльцом не в счёт), — и вздыхал, и хрустел своими сцепленными пальцами.
Я водил проклятой высохшей тряпкой; пальцы Пингвина хрустели; Стёпина мама сопела и упорно ждала продолжения.
— Это неудивительно, — повторил Марк Наумович. — Она была снайпером на войне. Девятнадцать убитых немцев…
Толик Курпатов заикался самым ужаснейшим образом.
Толик мучился энурезом.
Всякий раз, когда его вызывали, он принимался дрожать.
Безобидность его настолько бросалась в глаза, что Толика, кажется, никто никогда не побил.
Над овцой даже никто не смеялся.
Годика через два той удивительной дрессировки (до сих пор не пойму я: как? каким колдовством? каким неведомым образом всё прежде буйное, наглое, неостановимое прежними мольбами взрослых, так безропотно, так безнадежно, вдруг, сразу же, «с первой встречи, с первого взгляда» было подмято этим беспрекословным «Марш…»?), когда все мы, включая Козла-дурака, подонка Стёпу Загольского и силача Василевича, уже превратились в обездвиженные брёвна, в каких-то задумчивых буратин («Марш, марш к доске…»; «Марш, марш к стенке!»); когда на русско-литературных уроках (опять-таки восторжествовав непостижимым, магическим и самым зловещим образом!) свирепствовала нигде более — ни в каком месте, ни в каком учреждении — впоследствии мною невиданная та самая стеклянная муравьедовская тишина (любой шорох в ней, любой неожиданный скрип воспринимался нонсенсом, вызовом, святотатством), ритуальное дрожание нашего Толика Инне Яновне Муравьедовой, этой великанше с «дымящимися» волосами, озирающей весь мир своим недреманным оком (всё те же казённые юбка и кофта, всё те же чулки и туфли) и убившей на войне девятнадцать немцев, окончательно поднадоело.
Был Некрасов («Орина, мать солдатская»).
— Марш, марш к доске, Курпатов!
Зашатавшийся Толик дрожал.
— Ну?
Чччуть жжживввые в ннночь осенннююю
Мыыы с ооохоты возззвращащащаемся…
«До ночлега прошлогоднего» Толик так и не добрался («Марш, марш к стенке!»). Впрочем, он недолго там находился. Вновь последовало: — Марш, марш к доске!
Чччуть жжживые в ннночь…
— Марш, марш к стенке!
Толик выходил несколько раз, заикаясь всё более, — и вновь отправлялся «к стенке». Класс безнадёжно молчал. Убившая девятнадцать немцев Инна Яновна требовала непреклонно:
— Марш к доске!
После того как свирепый, колкий, словно сирена, звонок поздравил истосковавшуюся бурсу с окончанием (на сегодня) мучений и лестницы на четырёх этажах загудели от топота (школа ринулась к выходу), какое-то время мы слонялись по коридору, то и дело полируя щекой кабинетные двери. Из-за них доносилось:
Чччуть жжживввые…
— Марш к стенке!
И — через каждые пять минут — очередное:
— Марш к доске!
Чччуттть…
Положение было безвыходное: через час и самые любопытные разошлись по домам.
Стерва-отличница Тычкина, вёрткая вредная обезьянка, — с ней носились как с писаной торбой даже в местном роно (я уже не говорю о Пингвине!), — помимо всяческих тоскливых общественных, полагающихся её статусу работ, нагруженная «по самое не балуй» ещё и ежевечерней скрипкой, следующим же утром поклялась в раздевалке, что вчера, когда уже в сумерках она пробегала мимо нашей Бастилии со своим дурацким футляром, то однозначно видела — окна муравьедовского русско-литературного логова были ярко освещены.
Мы бы совершенно не удивились, если бы в этот раз вместо Толика к Инне Яновне Муравьедовой заявились бы все его родственники, но — вместо возмущённой толпы из бабушек-дедушек, мамы-папы, адвокатов, завучей и прочих разгневанных тёть — притащился бледный страдалец.
— Марш, марш к доске, Курпатов!
Толик вышел. Толик откашлялся:
Чуть живые в ночь осеннюю,
Мы с охоты возвращаемся.
До ночлега прошлогоднего,
Слава богу, добираемся…
Не знаю, как всё произошло; не ведаю, как всё случилось; не помню, как там насчёт энуреза, но больше Толик не заикался — никогда и нигде, — это может подтвердить каждый из нас, свидетелей, ошалевших, испуганных, сжавшихся за партами, боящихся даже вздохнуть, чтобы не быть насквозь просверлёнными знаменитыми всевидящими очами.
Читать дальше