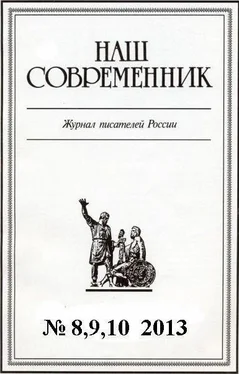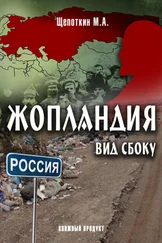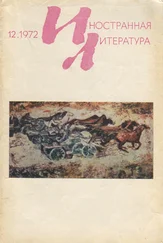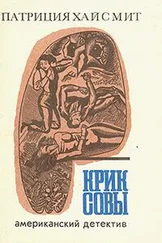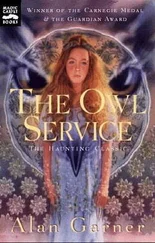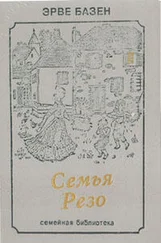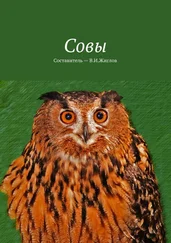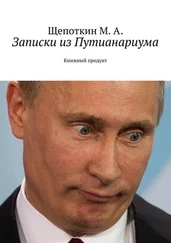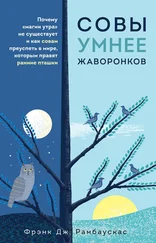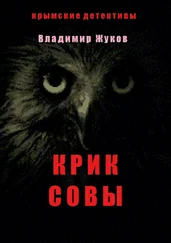Выведение в космическое пространство группировки «Скифов» означало неоспоримую победу Советского Союза в борьбе за ближний космос. В случае начала боевых действий советские «лазерные стрелки» могли быстро ликвидировать все военные спутники противника. И первый шаг к этой потенциальной победе был уже сделан. На космодроме Байконур стояла готовая к старту ракета «Энергия» с пристыкованным к ней 80-тонным истребителем. Ждали торжественного дня: на пуск должен был прибыть Горбачёв.
И он прилетел, но за три дня до старта. Ни основных исполнителей, ни смежников, ни командование Байконура это не насторожило. Решили: у генсека на день пуска могли быть запланированы другие важные дела. Поэтому в просторный конференц-зал космодрома народу набилось битком. Всем было интересно увидеть руководителя страны «вживую», послушать оценку своей работы.
Однако с первых же минут людей охватило недоумение.
— Мы выступаем против гонки вооружений, — заявил Горбачёв. — В том числе в космосе.
У Слепцова похолодело внутри. Эти слова не предвещали ничего хорошего. Он как представитель ведущего ведомства был приглашён на день рождения, а выступление человека с пятном на лысине явно готовило похороны.
— Наши интересы тут совпадают с интересами американского народа… Мы категорически против переноса гонки вооружений в космос…
Павел поглядел на сидящего в президиуме министра общего машиностроения Олега Бакланова. Лицо его было мёртво-бледным, кулаки сжаты так, что побелели костяшки пальцев. Министр сам работал по шестнадцать часов в сутки, требовал чёткости от смежников, лично контролировал наиболее важные поставки. Всё для того, чтобы надёжней закрыть страну от угрозы из космоса. Теперь, после слов Горбачёва, стало ясно, что «Скифы» приговорены к уничтожению.
В назначенный день лазерный истребитель подняли в космос. И тут же повернули его в плотные слои атмосферы, где он сгорел.
* * *
После этого от каждого документа, за которым стоял Горбачёв, от каждого выступления человека с клеймом на лысине Слепцов суеверно ждал неприятностей. И они приходили. Как экономист, Павел понял, какую опасность таит горбачёвское предложение резко уменьшить объём госзаказа на предприятиях. Правительство Рыжкова на 88-й год наметило его сокращение в размере 5-10 процентов. Именно такое количество продукции предполагалось продавать по свободным ценам. Основная же масса считалась заказом государства и обеспечивалась всеми материальными и финансовыми ресурсами. Разумеется, цены на выпускаемую продукцию должны были регулироваться государством. Изучив полученный опыт, правительство намеревалось продолжить снижение объёмов госзаказа, чтобы через несколько лет довести его уровень до оптимального.
Однако на заседании Политбюро Горбачёв настоял на том, чтобы сократить объём госзаказа сразу на одну треть, а для некоторых министерств — на 50–60 процентов. К чему это приведёт в монополизированной экономике, Слепцов представлял. Первым делом монопольные производители поднимут цены на ту продукцию, которая окажется за пределами госзаказа. Благодаря этому получат большую сверхприбыль. Деньги пустят на зарплаты и премии, в результате чего неоправданно быстро, с экономической точки зрения, вырастут доходы работающих в промышленности. Чтобы сократить разрыв между этой частью населения и бюджетниками, потребуются дополнительные траты бюджета, что ещё больше увеличит общую денежную массу в стране, в то время как товарная масса сократится. Немалая часть её уйдёт с внутреннего рынка на внешний. Другую часть снимут с производства как продукцию, хотя и нужную потребителям, но не дающую сверхприбыли. В итоге денег у населения окажется больше, чем товаров.
И всё произошло так, как предполагал Слепцов. В течение десятилетий закрытая экономическая система соблюдала синхронность роста доходов и товарной массы. После вмешательства Горбачёва движение пошло на разных скоростях. Уже в 88-м году вместо намеченного прироста доходов в 10 миллиардов рублей увеличение составило 40 миллиардов, в следующем — 60, а в 1990-м — сто миллиардов рублей.
Внутренний потребительский рынок взорвался. То, что оставалось после вывезенного за границу, припрятанного на базах, испорченного и выброшенного на свалки, всё это моментально сметалось с прилавков. Магазины опустели. С одной стороны, дефицит, с другой — резко выросший объём денег у населения подняли цены, породили невиданного размаха спекуляцию, когда товары из государственной торговли в открытую уходили на рынки и там продавались в несколько раз дороже. Экономическая преступность становилась привычным, ненаказуемым явлением.
Читать дальше