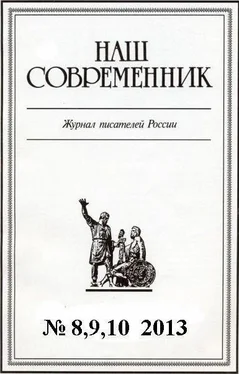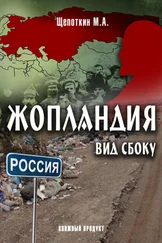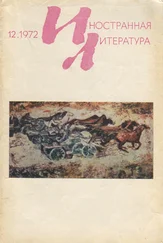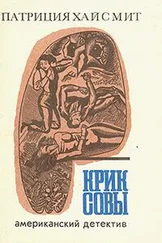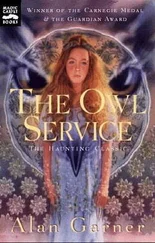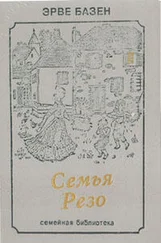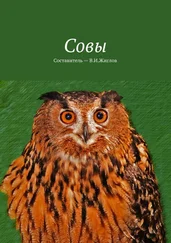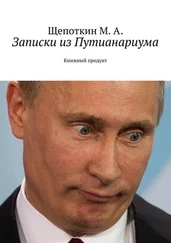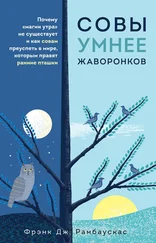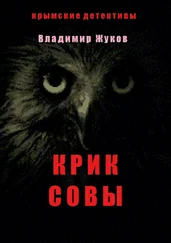«Ого! — удивился Карабанов. — Вот это демократия! Расстреливать, што ль, будут?»
Горелик провёл доктора поближе к президиуму — свободных мест в зале было много, и тут Карабанов как следует разглядел главного. Это только издалека лицо председателя показалось ему лицом добродушного простачка. Теперь он его увидел другим. Большую круглую голову охватывала шапка коротко стриженных, густых и, видимо, очень жёстких волос — косо падающий на средину низкого лба тёмный клин не сдвигался, даже когда председатель энергично тряс головой. Казалось, какая-то хищная птица распласталась на его голове, сбросила жёсткое крыло на лоб и, вцепившись в голову, не собирается выпускать свою добычу.
— Во время уличных митингов, — заговорил поднявшийся в соседнем ряду парень, — не обойдётся без драк, нарушения общественного порядка. Будет проливаться кровь. Кто защитит наших? Кто будет платить штрафы и защищать в судах?
— Пусть это вас не беспокоит, — заявил сидящий слева от председателя мужчина с длинным, как лошадиная морда, лицом. — У нас есть деньги, чтобы платить штрафы. Есть список 30 адвокатов, которые будут защищать наших людей, попавших к властям.
«Это кто?» — тихо спросил Карабанов Горелика. Тот пожал плечами. «Наверно, какой-то адвокат». «А этот?» — показал доктор на вставшего за столом президиума председателя. «О-о! Это известный экономист… Гаврила …э-э… Маратоныч, кажется. Один из лидеров Межрегиональной депутатской группы. Она сейчас главная сила демократии. На ней держится Ельцин. Подождите. Надо слушать».
В это время председатель подошёл к трибуне и снова заговорил о власти.
— Власть должна перейти к нам. Демократия… Церемониться больше нельзя.
«Да-а… Тебе власть только дай, Макароныч, — опять мысленно усмехнулся доктор. — Служил Гаврила демократом…»
А тот, пренебрежительно вздёргивая верхнюю губу, напористо диктовал:
— Для достижения всеобщего народного возмущения надо довести систему торговли до такого состояния, когда ничего нельзя будет приобрести.
Ничего! Таким образом можно добиться всеобщих забастовок рабочих в Москве и в других городах. Затем ввести карточную систему. Но карточки обеспечивать не полностью. Товаров здесь должно не хватать. Сильно не хватать. Какую-то часть… может, значительную часть товаров направить в кооперативы и продавать по произвольным ценам. Это тоже вызовет возмущение.
«Значит, дела пошли», — подумал доктор, меньше других поражённый сбивчивым рассказом Фетисова. Хотя дефицит уже давно тряс страну, Карабанов относил это на счёт неумелых действий горбачёвской команды. Однако теперь он понял, что, оказывается, активно работали и другие силы. Гордый своим участием в этой большой, невидимой деятельности, он ещё жёстче повторил, глядя на Андрея Нестеренко:
— Пусть быстрей всё развалится. Эта власть уже погубила страну.
— Как говорил лысый вождь большевиков Ленин: чем хуже, тем лучше, — весело добавил Слепцов.
— Да вы что! — закричал Нестеренко. — Вы ж диверсанты, ети вашу мать! Враги народа! Вас расстрелять мало!
— Не преувеличивай, Вольт, нашу роль, — бросил Слепцов, наливая себе в стакан водки. — Мы видим то, что давно разглядели другие: Горбачёв нам послан судьбой. Может, он действительно недоумок, как считают у нас. Но наша публика…
Он перемял тонкие губы не то в улыбке, не то в брезгливости:
— …это особая публика.
Слепцов был заместителем главного экономиста на крупном заводе с ничего не говорящим непосвящённому человеку названием. Таких предприятий в Советском Союзе было много. И ни по их «именам» — «Сплав», «Баррикады», «Южное», «Титан», «Рубин» и тому подобные, — ни даже по названиям министерств, к которым они относились, нельзя было определить, какую продукцию они выпускают. Например, ядерную начинку для ракет с атомными боеголовками делало Министерство среднего машиностроения. А было ещё Министерство тяжёлого машиностроения, Министерство общего машиностроения, просто Министерство машиностроения и ещё с десяток подобных ведомств, которые, наряду с гражданской продукцией, выпускали военную.
Завод, где работал Павел Слепцов, создавал системы управления ракетными комплексами и был связан по кооперации почти с тридцатью предприятиями в разных республиках Советского Союза.
Кадры военно-промышленного комплекса, на самом деле, были «особой публикой». Благодаря улучшенному социальному обеспечению — жильём, продуктами, товарами, здравоохранением, отдыхом — сюда отбирались наиболее подготовленные специалисты. На закрытых заводах и в моногородах продолжалось постоянное их обучение. Поэтому даже рабочие были хорошо знакомы со всеми технологическими новшествами советского и зарубежного производства. Это поднимало их в собственных глазах, развивало чувство достоинства, делало людей раскованными и достаточно свободно мыслящими.
Читать дальше