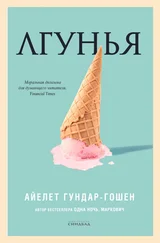Мы пили кофе на кухне, детей отправили спать. За окнами незаметно стемнело. Разговор о брошюрах давно исчерпал себя. Повисла неуютная тишина. Селеста время от времени деликатно зевала и курила, гася сигареты с испачканным помадой фильтром задолго до того, как они кончались. Франсуаза беспокойно мяла кусок хлеба и застенчиво мне улыбалась. Tante Матильда мелкими глотками отпивала кофе из маленькой чашки, которую держала в ладони, сложенной ковшиком. Дядя Ксавьер периодически дотрагивался до моей руки, словно желая удостовериться, что я и в самом деле физически существую, — собственно, только этим я и могла похвастаться — физическим существованием. Тоненький голосок у меня в голове — далекий-далекий, на грани слышимости — шептал: «Ты обязана сказать им. Они имеют право знать, что Мари-Кристин мертва». Но голос более близкий, утешительный, согретый вином, мудрый голос говорил: «Не будь дурой. К чему без надобности травмировать людей?» — и я послушалась этого голоса, потому что он казался более благоразумным, чем тот, другой. Достаточно взглянуть на дядю Ксавьера, чтобы увидеть, как ему радостно, оттого что рядом сидит его племянница; а племянница из меня получилась довольно сносная: я видела, что нравлюсь ему. Настоящая, может, и вполовину бы так ему не понравилась. Я посмотрела на него с нежностью.
— Ты устала, — сказал он, окинув меня пристальным взглядом.
— Да, — сказала я. Меня охватывало какое-то глупое счастье, когда он посвящал меня в эти милые интимные подробности моей жизни.
Я лежала в темноте на кровати. Оба окна были распахнуты. Небо ломилось от звезд, мириады светил мягко мерцали сквозь легкую дымку. Мое длинное, бледное тело вытянулось на покрывале. Я слишком вымоталась, чтобы уснуть. В голове гудело. Чтобы заглушить это гул, я проглотила две обезболивающие таблетки из тех, что дал мне с собой доктор Вердокс, но они не помогли. Я не могла оторваться от фотографии Тони, которую вырезала из газеты Сан, где он стоял с опущенными плечами и закрывал руками лицо — осиротевший, горюющий муж. Горевал ли он по-настоящему? Он часто повторял, что без меня пропал бы, но я принимала это за ненавязчивый шантаж, нечто вроде предупреждения. Иногда я спрашивала, любит ли он меня.
— Ты меня любишь? — спрашивала я. Меня интересовало, что именно, кроме привычки с его стороны и страха с моей, удерживает нас вместе в этом доме на две семьи на Бирчвуд-роуд.
— Ну, конечно, люблю, — отвечал он.
Мне было необходимо постоянное подтверждение. Если он и в самом деле любит меня, рассуждала я, тогда это объясняет, что я здесь делаю. Вероятно, это было достаточным оправданием, так как означало, что на мне лежит огромная ответственность, а следовательно, я должна остаться с ним и продолжать пылесосить ковры и готовить пищу. Так что его ответ служил мне чем-то вроде булавки, которая пригвоздит меня к месту. И за это я была очень ему благодарна. Мне приходилось так часто задавать ему этот вопрос, что иногда он терял терпение. Оно и понятно.
— Ради всего святого, — говорил он, — ты же знаешь, что люблю. Я постоянно об этом твержу.
Что правда, то правда. Он иногда говорил об этом и без подсказок, просто так. Но мне это было очень нужно. Очень нужно, чтобы меня пригвоздили к месту и придали моей жизни какой-то смысл.
Плакал ли он, узнав о моей «смерти»? Что это за мужчина, которого легко довести до слез? Я всего дважды заставала его за этим занятием, и оба раза по моей вине, ему тогда было шестнадцать. Дважды на моих глазах он разразился неудержимыми, безыскусными слезами. Я не на шутку перепугалась. Глубина его чувств приводила меня в такое смятение, что мне делалось дурно. Я пыталась дотронуться до него, хотя бы к плечу прикоснуться, но он уклонялся. Я не знала, чем его успокоить. Не понимала, как можно так самозабвенно рыдать, и вместе с тем отвергать единственный источник утешения. Наверное, он считал, что раз я сама причинила ему боль, то вряд ли смогу помочь. Но мне, по той же самой причине, казалось, что кроме меня ему ничто не поможет. Так что мне ничего другого не оставалось, как совершать привычную церемонию: умолять о прощении и терпеливо сносить последующее за этим мягкое наказание. Бедный Тони: его чувства настолько сложнее моих! Мои-то намного проще. Порой мне кажется, что у меня вообще только одно. Да, иногда мне приходит в голову, что единственное чувство, которое я когда-либо испытывала — это страх. Это, конечно, чувство с довольно широким диапазоном: сюда входят любые твои ощущения от легкой тревоги до леденящего ужаса. Даже счастье — всего лишь временная передышка от страха.
Читать дальше