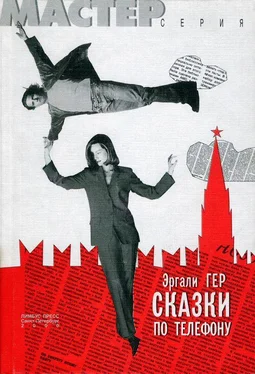— Значит, так, Женя, — сказал я, когда мы отрыдали очередной поезд на Минск. — Во-первых, хватит рыдать. Ты можешь выслушать меня спокойно?
— Да-а! — провыла Женя, кивая с ошеломляющей готовностью ко всему.
— Тогда слушай. Сейчас ты пойдешь в туалет, освежишь личико, поправишь макияж и выйдешь оттуда летящей походкой, как из бара, походкой нормального человека. Ты ведь нормальный человек, в принципе? Вот и хорошо. Эту смелую гипотезу мы проверим. И мы пойдем с тобой гулять по Москве, потому что проводники все равно шарахаются от тебя, как от иностранки. Ты, часом, не иностранка? Верю, верю. А переночевать можно и у меня, поужинать тоже. Кстати говоря — чем бог послал…
— Нет-нет, ни за что, я не могу… — залепетала она, и я позволил ей поломаться, потому что на душе было муторно. Я охотно послал бы к черту эту грузную девицу с размалеванной по щекам тушью, дурости которой хватило, чтобы сломать мне праздник. Она и на улице продолжала всхлипывать, и в троллейбусе. Мы доехали до Пушкинской площади, оттуда пошли вниз по Тверскому. Я упорно молчал, хотя понимал, конечно, что спутницу следует развлекать — но и спутница, и джентельменство были мне в тягость, я упорно молчал, так что поневоле пришлось болтать Жене — оно и к лучшему, оказалось, потому что собственная болтовня подействовала на нее как успокоительное.
Было около десяти вечера — время сумерек, когда одинаково приятны и свежесть воздуха, и тепло раскаленного за день камня. Сонная тишина переулков, нарядные толпы, валящие из освещенных театральных подъездов, свора машин, спущенных с поводка по знаку светофора, — все в этот зыбкий час представляется каким-то особенным, значимым и волнующим. Мы шли бульварами. Женя нервничала, но не паниковала, много болтала и с интересом озиралась по сторонам, примеряясь к новой для себя жизни. Я слушал вполуха, а иногда незаметно приглядывался к ней, пытаясь понять ее жизнь или угадать в ее чертах Лизу. Лизы там не было, не ночевала, да и самих черт, по-моему, не было, а было обыкновенное девичье лицо, точнее — лицо девицы постарше меня года на два, мечтающей обо всем, о чем мечтают девицы, с поправкой на провинциальный пединститут и московские сумерки.
Мы подошли к дому, благополучно перенесли еще один трехминутный приступ сомнения и поднялись на пятый этаж.
— А где родители? — скользнув в комнату, шепнула Женя. Я пояснил, что родителей нет, они второй год работают в советском секторе Атлантиды, так что можно говорить нормальным голосом и вести себя соответственно.
— И ты все два года живешь один? — с удивлением и жалостью спросила Женя.
— А что?
— Нет, ничего. Я не в том смысле… — Она вдруг придумала конфузиться и краснеть. — Просто так странно… Одинокий молодой человек… Я бы, наверное, испугалась к тебе придти, если бы знала…
Все-таки она сумела меня достать.
— Да брось ты, Женя, — сказал я с досадой. — Взгляни на себя — при желании ты без натуги сможешь меня отшлепать, разве не так? Еще неизвестно, кто из нас подвергается тут большей опасности. Так что давай не будем друг другу льстить, а будем ужинать и коротать вечер.
По-моему, это привело ее в чувство. Остаток вечера, во всяком случае, прошел по-людски. Ссохшееся мясо — еда одинокого молодого человека — вызвало в Жене приступ бабьего умиления, и после ужина она основательно прибралась на кухне и в комнате. Я не мешал. Потом мы пили чай и слушали музыку. Было около двенадцати, когда Женя, после мучительных колебаний, сделала над собой нечеловеческое усилие и спросила, как мы устроимся на ночлег. Я сказал, что в нашем распоряжении диван (один) и раскладушка (одна). Потом застелил диван свежим бельем, поставил раскладушку, мы немного подискутировали о правилах хорошего тона — кому положено спать на раскладушке, хозяину или гостье? после чего побежденная Женя отправилась в ванную, а я застелил раскладушку своим бельем.
— Музыку выключить? — спросил я, когда Женя вернулась.
— А что, пускай, мне не мешает, — ответила она с каким-то, я бы сказал, паническим оживлением; пожелав ей спокойной ночи, я вышел.
В те годы была у меня привычка посиживать в ванне с книжкой; теперь я читаю в других изолированных местах, но в юности, когда сердце было не столь чувствительно к нагрузкам, я часами плескался в ванне, почитывая литературу и почесывая распаренное тело, только вот курить в ванне плохо, воздух очень сырой. И в тот раз, помниться, я полез в ванну с намерением скоротать часик-другой — раньше двух ложиться было не принято — а заодно смыть с себя такой насыщенный, такой жаркий денек. Тело мое еще помнило Лизу и пахло ею; я залез в ванну, и горячая вода смыла все запахи, я сказал Лизе «прощай» и отдался чтению. Не помню, что я тогда читал — помню, однако, что очень скоро в дверь постучали и взволнованный Женин голос сказал:
Читать дальше