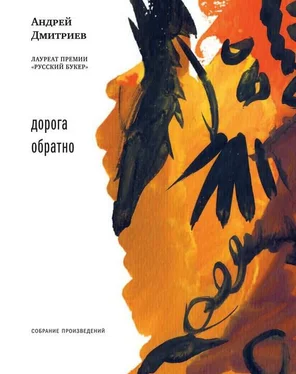— Симптомы обрисованы неполно, но грамотно, — забавляясь, отметил Жиль. — Правда, мы, врачи, говорим отслойка сетчатки.
— Может быть. Что касается врачей — все может быть… Но литература как метод познания и описания мира — это отслоение . Настаиваю на термине и рассчитываю на патент.
— Напрасно рассчитываешь, — ввязался в бой Новоржевский, — потому что, по совести говоря, литература — это никакое не отслоение, но ослоение …
— Кто бы их унял! — в ухо В. В. прокричал страдальчески Свищов, уже который день потрясенный и растроганный своими первыми, пока нигде не опубликованными рассказами.
— Именно ослоение , — настаивал Новоржевский. — Литература — акт познания и, вместе с тем, акт созидания словесной ткани — акт одномоментный и неразрывный. Литература в целом и писатель в частности, познавая суть вещей, снимает с нее слой за слоем и, вместе с тем, созидая словесную ткань, наслаивает ее — слой за слоем. Отслаивает и наслаивает. Это и есть ослоение… Раздевает и одевает одномоментно — я внятно выражаюсь, молодые люди?
Молодые люди спорить не решились.
— …Раздевает и одевает с целью добраться до сути. Любовник и портной в одном лице… Ну а когда вожделенная суть полностью раздета, стало быть, одета, то есть ослоена, то есть достигнута, — что же там оказывается достигнутым, молодые люди?
— Что же? Что? — осмелились переспросить молодые люди.
— А ничего! — с победной грустью прокричал Новоржевский. — Нету там ничего! Ничего там не нащупаешь, кроме все тех же слоев… Вот тут и оказывается, что эти зримые, осязаемые, вполне материальные слои, что сама материя литературы и материя познаваемого ею мира и составляют искомый смысл. Лишь сама игра является выигрышем, и лишь сами свечи стоят свеч… Итак, господа-товарищи, ослоение . Прошу патент и пишу декрет: с этой минуты все, кто будет настаивать на отслоение , — ослы, офтальмологи и самозванцы.
Плетенев хохотал; Жиль посмеивался; Свищов мерз и страдал; юноши благоговели и хмурились; В. В. скучал. Он попытался перевести разговор на что-нибудь милое сердцу, но юноши дали ему непочтительный отпор:
— Погодите вы с вашей водкой, — оборвали они его, — водку мы вам достанем, не волнуйтесь, а покамест не мешайте.
Тон их был хамский, но никто им на это даже не намекнул. Плетенев с Новоржевским, поймав кураж, виртуозно сугубили свою прю, Жиль и Свищов им внимали, один весело, другой с тоскою, юноши уже и встревали, — поднимаясь по гранитным ступеням набережной между обметанных инеем сфинксов, никто из них даже не обернулся на обиженного В. В. и не заметил, как тот вновь отстал и остался на невском льду.
Долго, пока их фуражки и башлыки, колыхаясь над парапетом, уплывали к университету, он провожал их глазами; так и не дождался ответного отклика или взгляда; потом достал из кармана хронометр. До встречи с Блоком оставалось чуть более десяти минут.
— В сущности, я не так уж люблю Блока, — сказал он сфинксу, заглядывая снизу в его пустые выпуклые глаза. — Все эти туманные дамы, дали, скифы и мифы, все эти вуали и фонари… Другое дело Гумилев: увлекателен, внятен; и в географии знает толк.
Однако же он пошел по льду в том самом направлении, что и его невнимательные друзья, ненадолго оставляя себе шанс их простить — подняться на набережную возле Дворцового моста и как ни в чем не бывало двинуться им навстречу…
Мост прогудел ему железным эхом его же собственных шагов — а он все шел… Костры Петропавловской крепости запылали в сумерках, кто-то грубо окрикнул его от костров, дважды пальнул по нему из винтовки — он лишь ускорил шаги и сместился к середине реки… Уже и стемнело, хруст наста под сапогами сделался оглушительным, а он все шагал, то и дело сталкиваясь во тьме с бесшумно шныряющими по Большой Невке безликими, озабоченными людьми… У какого-то бушлатника в усах и пуховом платке он обменял свой хронометр на бутылку водки и луковицу; идти стало много веселее; потом исчезли берега, воздух обрел иную упругость, иной, глубокий и ровный звук, и он понял, дохлебывая последний глоток, что вышел на лед залива.
— Что будет, то и судьба, — сказал он себе, выбрасывая за спину пустую бутылку, и эти пустые слова обречены были стать правдой, потому что на небе, замазанном тучами, не было звезд, не было во тьме каких-либо иных вех, не было осознанно выбранного направления и никакой, даже предполагаемой цели этой упрямой ходьбы — оставалось довериться одной лишь судьбе, только с нею, безгласной, приходилось на ходу разговаривать; впрочем, умирая в реанимационном боксе нашей областной больницы, В. В. не помнил уже, да и не желал вспоминать, о чем болтал он с судьбою более чем полстолетия тому назад: страшась опоздать, не позволяя памяти вязнуть в неважном, он торопил ее как мог, понукал из последних сил и наконец услышал легкий скрип полозьев, легкие, как вздох в тишине, шаги и увидел Маарет.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу