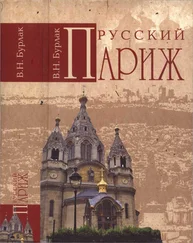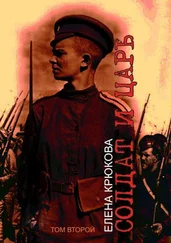Белая — на смуглой коже.
Не веря, руку к лицу поднесла. Глядела обреченно.
Слез не было. Лицо напекло солнцем.
«Устала. Как я устала».
* * *
Банковский кризис на Уолл-стрит. Он разразился. Его ждали.
Деньги не стоят ничего.
А раньше — чего стоили они?
Анна вспоминала ужасные, пошлые, заляпанные тысячью жирных пальцев керенки-простыни с тремя нулями. Вспоминала, как в Берлине, подметя и без того чистую улочку, Семен приносил домой в горсти мятые марки. Как в Праге, устроившись разносчиком молока, он приносил в карманах хрустящие новенькие кроны. И лицо мужа и отца кривилось в счастливой, стыдливой, слезной улыбке.
Франки, чем вы отличаетесь от иного людского бумажного обмана?
Обман этот жизнью зовется. Какая насмешка.
Жилье — стоит денег. Еда — стоит. Жить дорого, очень дорого. Жить — не по средствам. Не по силам.
Париж затопила безработица. Люди метались по улицам в поисках любого су, любого завалящего сантима; а не найдя, выбрасывались из окон, с чердаков. Эйфелева башня, вот прекрасный инструмент для того, чтобы свести счеты с жизнью! Дамы удлинили юбки, обрядились в черное, в коричневое, в темно-синее: в знак европейской скорби.
А жизнь текла, как Сена. Как далекая Волга. Текла, холодная и равнодушная к людским страстям, к их великим войнам, к засаленным, с цифрами, нелепым бумажонкам.
* * *
Красный бархат падал и рушился; золотая лепнина взмывала и летела. Уступами, ступенями падали, вздымались валы — бельэтаж, амфитеатр, галерка. Волны партера прибывали, в волнах просверкивали нагие плечи, жемчужные ожерелья, брильянтовые колье, волнами колыхались изощренные, замысловатые прически дам, и жгучая чернота мужских смокингов говорила о черных замыслах, о суровой защите от желаний и соблазнов. Краснобархатный прибой; белый солнечный песок балконных, жарких скал. Это тоже Лазурный берег, и здесь тоже — аристократия. И здесь можно утонуть в роскошном бездонном море сиятельной публики. Сколько стоит билет в партер? Может, барону отдать стоимость, отработать?
Рауль беспомощно озирался. Глаза горели, а рот сам кривился в презрительной, надменной гримаске: юноша делал вид, что тут завсегдатай, а в Опере был первый раз. Вон, в ложе сидит черноволосая дама, в волосах — крохотная корона, усыпанная алмазной пылью; кто это? «О, сама Марья Федоровна пожаловала из Стокгольма! — согрел теплый шепот барона Раулево ухо. — Императрица в изгнанье… сколько ж ей лет, бедняжечке, а все как девочка глядится!»
Оркестр грянул увертюру, и гомон в зале утих.
Музыка обняла, закружила.
Из зала на сцену глядели люди.
Девочка, худенькая, длинношеяя, открыла рот, внимая музыке всем тщедушным, недокормленным телом. Аля Гордон, гляди и внимай! Эта опера — для тебя, ведь она о Руси, о России.
Старуха выгибала узкую жилистую спину, чуть вздрагивали высохшие руки — сейчас птичьи лапы, а через миг — вольные птичьи крылья. Мадам Казимира, глядите, слушайте! Это ваша опера — года или века назад, вы забыли уже, сколько воды утекло, вы в этой опере танцевали, и вас обряжали в костюм прекрасной половчанки, и вертелись цветные шальвары, и нанизывались на веретено времени ваши великие фуэте.
Расширив глаза, глядела на сцену Ольга Хахульская, и дрожало горло от боли и страсти, от острой, всаженной под сердце иглы воспоминаний. Плачь, бывшая тангера! Не суждено на большую сцену вернуться! А может, еще суждено?
Игорь Конев, аргентинский бедовый мачо, русский скиталец по чужим землям и морям, и ты здесь! Все-таки купил билет на русскую оперу! А может, украл? А может, выменял на краденую в толпе бурлящего чрева Парижа блесткую безделушку? Ты сидишь в последнем ряду партера, далеко от своей тангеры. Почему вы в разных концах зала? Потому что вы поссорились, и ты ушел из дома! Бросил на прощанье: Париж большой, найду пристанище! И еще издевательски прошипел в маленькое розовое ушко: «Ты мне надоела!».
Что ж, люди надоедают друг другу. Так бывает в жизни. А Париж и правда большой. В Париже все утонет: и страх, и боль, и расставанье. Ты ушел и больше не вернешься? Никогда? Скатертью дорога!
«Скатертью дорога!» — крикнула Ольга вслед Игорю, а дверь хлопнула — села на пол, сгорбилась, лицо в ладони уронила. И так сидела: весь вечер, полночи, пока не замерзла сидеть на голом полу.
Барон наклонялся к уху Рауля, шептал, щекотал щетиной. Рауль, у барона пятеро детей, берегись, ты станешь шестым! А что беречься? Это в характере русских: подобрать, накормить, обогреть — и сделать своим, своим навсегда.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу