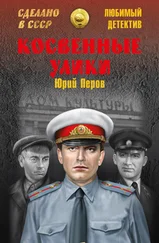Боже мой, какая я лицемерка и ханжа! Мамочка, не обижайся, но это твое воспитание. Все кручусь вокруг да около, все изворачиваюсь. Саня сказал, что я скрытая графоманка, когда я ему рассказала, что веду дневник и делаю длиннющие записи.
А я и не собираюсь стать профессионалом. Я пишу только потому, что не могу думать в голове. Не все же такие умные, как он…
Нет, серьезно, он очень умный. Я бы даже сказала., он «благородного ума человек», как Ираклий — человек благородной души. А какая я умная — с ума сойти!
Конечно, он поймет, что я не могла поступить иначе! Что я НЕ ВИНОВАТА ни перед Зверевой, ни перед ним, ни перед Ираклием, ни перед всем светом. Я поступила так, как требовало, как приказывало мое женское естество.
Во всех книжках по сексу (мы со Зверевой начитались — будь здоров!) сказано, что первый раз — самый главный. Мне все уши прожужжали, что это больно, что это страшно, что с первого раза ничего не узнаешь, а я узнала все! Все до конца. Я узнала нестерпимое наслаждение, пусть перемешанное с болью, но наслаждение! Я узнала счастье, к которому почти подходила, почти дотягивалась во время наших мучительных, сумасшедших встреч с Сашей!
И еще я узнала власть! Ираклий не в счет, потому что мне никогда не нужна была власть над ним. А тут я пришла, сказала сама себе: «Он», и взяла его, несмотря на Звереву с ее грудью и прекрасными коровьими глазами, несмотря на теток, на то, что сам Сергей заранее не был готов к этому.
Теперь я понимаю Наташу Ростову. Андрей Болконский был ее идеальной любовью, а Анатоль Курагин — страстью. А сопротивляться страсти — это безнравственно, это губить и ее, и себя. И неизвестно, как все обернулось бы, если б ей удалось уехать с Курагиным. Мне удалось! И теперь я…
21 декабря 1978 г.
Вот это письмо:
«Прощай, любимая! Как долго даже про себя я не мог выговорить эти два слова. Как долго я не мог поверить, что оба они — правда. И второе, и первое. Я не знал, что это будет так больно.
Как долго я не хотел смириться с этим. Демоны ревности, подозрительности, мстительности раздирали меня на куски. Я убегал на озеро (помнишь поваленную липу?) и выл в голос, как собака по покойнику. Один раз я вспугнул своим воем влюбленных. Я их не заметил в сумерках и от стыда озверел. Кричал, прыгал, корчил рожи. А она оттаскивала своего парня за рукав. Она, наверное, чувствовала, что со мной нельзя было связываться.
Потом я наконец заплакал. И с этой минуты мне стало легче. Боль усилилась, но очистилась от грязи, от душных ночных кошмаров, когда я вскакивал и начинал одеваться, чтобы пойти и убить его. Потом тебя. Потом себя… Малодушие, ярость, зависть, ревность, жалость к себе — это ушло. Спасибо тем влюбленным.
Меня вдруг озарило, что ты это сделала не для того, чтоб меня обидеть, заставить страдать. Ты меньше всего думала обо мне… Я вдруг увидел вас вместо этих влюбленных. И тут я понял — ты не виновата, как не виноват я в том, что по-прежнему, или еще сильнее, люблю тебя. Я отчетливо увидел, как вы, прячась от людей и от меня, сидите на своем бревне среди снегов, как ты прижалась к нему и счастлива и не чувствуешь ни холода, ни времени.
Прощай и прости меня, любимая. За все. За то, что было до… И особенно за то, что было после.
Впервые я почувствовал это, когда ты пришла ко мне после праздников. Игорь сказал тебе, что я дома один и жду тебя. Ты передала с ним, что будешь через час. Я очень волновался, ведь ты первый раз шла ко мне домой. Я видел в этом какой-то особенный, скрытый смысл.
Как только ты вошла, я сразу увидел, что это уже не ты. Но не поверил своим глазам. Мы поздоровались. У тебя были сухие, горячие, как при температуре, руки. Ты поцеловала меня… Ткнулась горячими, обветренными, как в лихорадке, губами в мою щеку, и едва уловимая гримаска исказила твое лицо. «Колючий», — улыбнулась ты. «Хорошо, я побреюсь… Ну, здравствуй!» Я обнял тебя за плечи и притянул к себе. «Здравствуй, здравствуй. Мы уже поздоровались», — и слегка повела головой в сторону, словно тебе воротничок тесен.
Прости, любимая. Не читай. Я понимаю, что пытаюсь облегчить свою боль за твой счет. Порви и выкинь это письмо… Просто я не могу это удержать в себе.
Все во мне насторожилось. Взгляд замечал любую мелочь. Да еще Игорь все уши прожужжал своими праздничными рассказами… Почему же она молчит о том, как провела праздники? Нет, не спрошу. Пусть начнет сама… А ты болтала о всяких пустяках, что-то про Звереву, про то, что она на тебя в очередной раз дуется (глупец, я не придал этому значения), о моей болезни, о Толстом. Оказывается, ты перечитываешь «Войну и мир». Что-то о школе…
Читать дальше
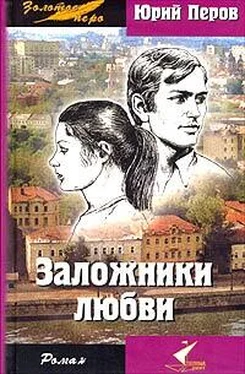
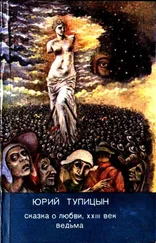






![Карла Кэссиди - Заложники любви [litres]](/books/433283/karla-kessidi-zalozhniki-lyubvi-litres-thumb.webp)