Дункель держался дорожки, что шла по периметру лужайки. Трейлеры этого бродячего народа стояли на краю вытоптанной поляны площадью примерно в акр. Дункель замедлил ход и остановился у большого светлого трейлера, обрубив музыку на середине гремящей оркестровой битвы, где уже не было места скрипкам. Потом коротко кивнул мне, что означало: Вот мы и на месте, да ты и сам знаешь. Так что давай заходи и жди, когда тебе всыплют по первое число. Мое сердце стучало, громыхало в груди, готовое к безумию, к невероятности, к встрече, которая может перевернуть всю мою жизнь. Я выбрался из машины, подошел к двери трейлера, открыл ее и вошел внутрь.
Он — молодой парень, лежавший на койке и читавший книжку в мягкой обложке, — был потрясен больше, чем я. В конце концов, я был более-менее подготовлен к подобной встрече, а он-то — нет. Я хорошо понимаю, с каким затруднением столкнется сейчас мой читатель в восприятии данного эпизода. Мне бы хотелось, чтобы он был воспринят как правда жизни, а не как авторский вымысел. Проблема в том, что читатель (вы сами) гораздо охотнее воспринимает (воспринимаете) литературу как вымысел, что неизбежно снижает способность к восприятию произведения как отражения реальной жизни. Фотографический фокус, раздвоенный кадр! Использование совпадений для усиления развлекательного момента. Прекрасное чтение на ночь или в летнем гамаке под сочное чавканье персиком; беспроигрышный прием в древних традициях, идущих еще от Плавта и освященных Шекспиром, у которого в труппе играли два однояйцевых близнеца, Уолт и Пип Гослинги, и притом легкий и непритязательный. Но продолжайте, прошу вас. И случилось так, что вошел я в тот чертог, и — вот чудеса! — возлежал там на ложе, читая скверную книжонку, мой собственный двойник, хотя не было у меня близнеца-брата, ни старшего, ни младшего, никакого, и достоверных свидетельств о том не имелось. И смотрели мы друг на друга, и преисполнился он изумления великого, я же изумлен не был, ибо предчувствием полнился прежде, что подобный ему существует на этой земле. Было сказано мне, что у каждого в мире / Есть двойник, точно подобный ему / Однако кто скажет наверняка / Кто есть подлинник, кто — подобие? Боже правый / Об этом читал я в трудах Беллафонте / У Галена, у Васа, Вителлия и того / Кто создал «Книгу скорбей». На самом деле все было не так. Это было другое. Реальное, современное, теперешнее. Мой раздвоенный образ вошел в сад этого мира без оправдания действительным раздвоением яйцеклетки. Оплошность усталой или небрежной природы, совершенно бессмысленный каприз.
Он был одет почти так же, как я, но не совсем: вещи заношенные и грязные, как у меня, но материя явно получше. Рубашка расстегнута у ворота, как у меня, только его шею нежил яркий шелковый платок, а моя была голой. Если бы я встретил его до изобретения фотографии и киносъемки, поначалу я был бы весьма озадачен, почему мы так похожи и в то же время как будто и не похожи: я был бы уверен, что моему взгляду он должен предстать как зеркальное отражение — мое единственное подобие, которое я мог бы знать в те времена, когда далеко не каждый мог позволить себе заказать у художника свой портрет. Но благодаря фотокамерам я знаю, как выгляжу в глазах мира. И то же самое, безусловно, должно быть верным и для него. Мы долго таращились друг на друга под отдаленное звучание цирковой музыки, очень удачно аккомпанировавшей нашему клоунскому состязанию отвисших челюстей. Разумеется, его челюсть отвисла больше моей. Тут уже никаких сомнений: есть чему удивляться — ищешь всего лишь сходство, а получаешь полное тождество. Только самый придирчивый взгляд мог бы заметить такие детали, как линия губ или ноздрей, раздутых в ошеломлении — чуть-чуть не таких, как у меня, — придававших ему глупый вид. А теперь, подивившись на это чудо, мы пойдем дальше. В жизни есть много всего интересного и помимо того, что два человека вдруг узнают, что они — точная копия друг друга. Между прочим, первую реплику выдал он, предварив ее глупым смешком, сразу же подтвердившим, что я не ошибся, когда почувствовал, что именно должен чувствовать по отношению к этому человеку.
Как я понимаю, из нас двоих только я внимательно слушал голос другого, стараясь понять, сохраняется ли наше сходство и на акустическом плане. Многие люди уверены, что голос значения не имеет; голос считается чем-то призрачным, чем-то вроде косметики или предмета одежды, этакий съемный реквизит для видимого материального тела. Когда голос намеренно искажен, как в беззубом военном красноречии Черчилля или в гортанном пении рок-звезды, его не только замечают, но и восхваляют — восхваляют именно потому, что искажение сделало голос заметным. Однако при реконструкции личности, скажем, Иисуса Христа никому даже в голову не приходит использовать голосовую агиографию. Видеть мы его видим, но не слышим его арамейского, который, насколько нам известно, мог быть шепелявым. Это не важно. Голос для большинства просто декор. Для этого парня, для Лльва, мой голос был не более чем простым инструментом общения, старой раздолбанной тачкой, которая в принципе едет туда, куда надо, а уж какой она там модели — это дело десятое. А для меня его голос, который в первые пару минут я пожирал с тошнотворной жадностью, был ненавистным благословенным ключом к возвращению к беспредельному многообразию жизни, против которого мы с ним святотатствовали на пару… нет, святотатствовал только он, он один. Тембр его голоса был почти как у меня, но фонемы — вещи, по сути, заученные, просто декоративная косметика, и не более того, — звучали на американо-валлийский лад. Пенсильвания? Он сказал, что его зовут Ллев. Сокращенно от «Ллевелин».
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
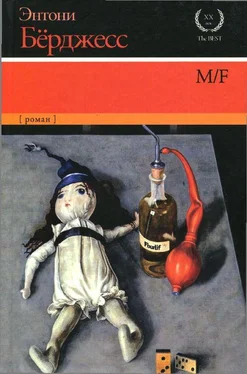





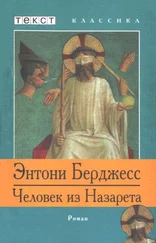



![Энтони Берджесс - Право на ответ [litres]](/books/396964/entoni-berdzhess-pravo-na-otvet-litres-thumb.webp)
