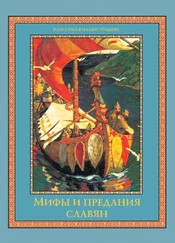Он нагибается над мостовой, ищет глазами камень, но, ничего не найдя, подбирает нервно дрожащей рукой острый осколок керамики, черепушку (и череп, и пушка!), и, коротко размахнувшись, швыряет его в обидчицу. Осколок, не долетев даже и до второго этажа, стукается в стену, тихо и нестрашно, и падает на мостовую.
Барышня показывает ему розовый язык и проворно захлопывает окно.
— В милицию ее надо, акт составить, — блеснув круглыми стеклами очков, советует какой-то случившийся здесь служащий в сатиновых нарукавниках. Пойти милиционера кликнуть. Акт составить… дата, подпись…
— При чем тут милиция? — с хмельным напором вмешивается один из мастеровых. — Барышня при чем?.. Энтот хрен моржовый сам виноват. Неча под окном ходить, пялиться…… Ты что тут шляешься, гнида? Кто тебя сюда звал? — наступает он на Бляха, наклоняясь и нащупывая что-то за голенищем сапога…
Ибо по всем законам справедливости Казимир Бляхъ, прозванный даже среди своих Живодером, несмотря на то что счастливо уклонился от горшка, должен непременно погибнуть, хотя бы в знак того, что ни человеческое помилование, ни оплошности неопытного рока ровно ничего не значат перед справедливым приговором, который «обжалованию не подлежит»… Пропуск выписан и окончательное объяснение должно свершиться в назначенный срок.
Тут важен только способ…
Инфаркт? Испугался, мол, горшка, и… Нет, слишком банально…
Ну, хорошо. А что, если, допустим, этот самый пьяный мастеровой да ощерит сейчас зубы, да вытащит наконец-то из-за голенища остро отточенный сапожный нож, и… Спьяну, мол……
Нет, нет, грубо и примитивно… Тем более, что выбор богат.
Тысячи смертей ежедневно проходят мимо каждого из нас, роятся над нашими головами… Тысячи!
— Надо милицию. Акт, подпись… Дата…
— Ты поговори мне, харя морщинистая! — ругается мастеровой, оставив в покое Бляха и наступая на Степана Терентьевича Рогова.
— А ты тронь, тронь, — отступая, звенящим тенорком угрожает Степан Терентьевич. — В милицию попадешь. Мигом акт составят, кто ты есть таков.
— Прибить бы тебя, гнида! Порубить бы тебя в рульку! — плюется мастеровой, но прячет кулаки под кожаный фартук.
Казимир Бляхъ тихо выскальзывает из собравшейся толпы, объясняться с милицией и подписывать акты он не намерен. Хватит с него актов…
— Э-э, черт меня подери! — ругается он, заметив, что поранил острым осколком мизинец и безымянный палец и из ранки сочится кровь…
Бляхъ вытягивает перед собою руку и беспомощно оглядывается: вид крови пугает его с детства.
— На вот, землицей приложи, — сует ему горсть черной земли невесть откуда взявшийся лысый дедок в распахнутом на груди тулупе. — Наплюнь и приложи, оно быстро затянет…
Казимир Бляхъ морщится, не в силах отвести взгляда от пораненной руки. И тогда лысый дедок в тулупе, поплевав в землю, прикладывает комок грязи к его сочащейся ранке.
— Землица-то наша, древлерусская, — бормочет он. — Сила в ей, врагам погибель. Мать-земля сырая… Быстро затянет…
— Антон! Ты что ж лошадь оставил, горемыка! — дергают участливого старика за локоть. — Ушла без привязи, беги, уж почти у Михаила-Архангела…
— Охти, ёшки мои! — вскидывается лысый дедок, всплескивает ладонями и пропадает.
И ни деда этого лысого, ни рыжей его лошади…
Тонкий ход. Весьма тонкий и коварный. Н-да-с…
Сказано же — тысячи!..
…Ровно через три недели, десятого мая, в пятом часу утра в сыром подвале городской тюрьмы совершилась казнь. В числе других иных прочих расстреляны были и Латыш, и Мельник, и Эсер, и Хохол…
Но тихо и бесшумно совершилась еще одна смертная казнь. Именно десятого мая в пятом же часу утра Казимир Бляхъ, по прозвищу Живодер, приговоренный к смертной казни особым совещанием, но спустя время этим же особым совещанием неожиданно и необъяснимо с точки зрения здравого смысла помилованный и выпущенный на поруки, скончался в Первой градской больнице от обыкновенного заражения крови.
Сжег его антонов огонь.