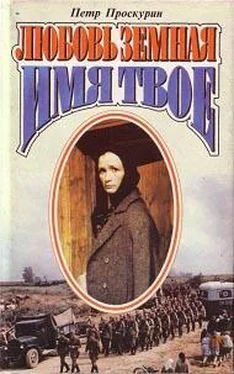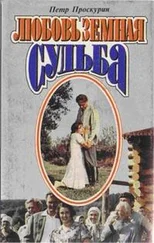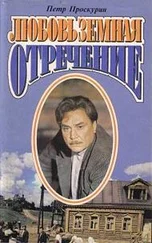Сердце у Митьки на мгновение замерло, заледенело, он опять засмеялся, теперь уже напрямик в один мах взбежал к каменной бабе и остановился, в упор ее разглядывая. Она оказалась выше его почти на голову, а подножие этого истукана, густо окруженное травами, глубоко уходило в землю, ни рук, ни шеи у него не было, угадывались лишь голова и большое тулово, а так камень был целостным, даже голова была только слегка обозначена. Митька обошел каменного истукана со всех сторон и поразился: он не мог бы точно сказать, что перед ним женское лицо и грудь, но это были именно женское лицо и бабья грудь, и все это словно проступало под взглядом из самого камня; и Митька еще раз поразился той непонятной силе, что таилась и жила в каменной глыбе, лишь отдаленно напоминавшей человеческую фигуру. «Ну вот, здесь и заночую», — внезапно решил он и еще раз, теперь с высоты кургана, оглядел переменившуюся к вечеру степь. Теперь уже не было видно трав, легкая сизая мгла легла на степь, и кое-где в ложбинках начинали густеть и копиться туманы. Солнце село. Закат не спеша слабел, теряя огненные первоначальные цвета; истаяли постепенно и растворились в тишине неба бившие из-за горизонта широким бледно-золотистым веером последние лучи; и Митька почувствовал, что именно с этой минуты он остался наедине с таинственной силой степи; это была не мысль, а именно чувство, которое Митька не мог объяснить и потому рассердился. Каменная баба безглазо и близко глядела на него со своей высоты, темное звездное небо бездонно обтекало ее; у Митьки от этой бесконечности и бездонности закружилась голова.
— Ты, старая ведьма, всякое-такое брось, — заявил он каменной бабе довольно решительно. — Сама как знаешь, а мне пора перехватить да на боковую.
Сказал и тотчас ощутил, что этого не следовало говорить, потому что кругом было полнейшее безлюдье и человеческий голос прозвучал убого и дико, оскорбительно широкому дыханию степи; Митька упрямо усмехнулся, деловито выбрал место, сел рядом с каменной бабой, распаковал свою поклажу и, увидев привычные домашние вещи, повеселел. Анюта положила ему даже жестяную кружку и кроме двух бутылок самогонки сунула трофейную алюминиевую помятую флягу с квасом; Митька выложил на траву полдесятка вареных яиц, сало, хлеб, с хрустом разрезал большим карманным ножом луковицу и, приготовившись к пиршеству, еще раз огляделся и прислушался. Все живое, кроме кузнечиков, успокоилось, те тоже слышались все реже; Митька на ощупь налил в кружку самогонки, в предвкушении давно ожидаемого удовольствия помедлил, затем одним махом выплеснул в горло и, хватая ртом воздух, долго ничего не мог вымолвить, Анюта постаралась на совесть; торопливо облупив яйцо, Митька густо посолил его и ошалело сунул в рот, чувствуя, как по всему телу разливается молодой, бодрящий огонь. В должную меру потрудившись над хлебом, салом и луком, Митька выпил еще, закусил пирогом с солеными грибами и мелкорублеными яйцами и, похваливая Анюту (чего, спрашивается, дурак ерепенился? Почаще бы ей такие мысли приходили!), растянулся в траве навзничь и с мягко туманящейся головой стал следить за звездами, жмурясь, когда какая-нибудь из них начинала колоть ему прямо в глаза голубовато-холодным, острым лучом. Вот ведь чудеса на свете, думал он в приятной размягченности, говорят, до тех звезд ни в какие сроки не доберешься, а как же такое понять? Для чего же тогда они есть, такие недоступные? Чудеса! И потом, для чего все на белом свете — бабы, мужики, зачем он сам? Зачем, например, он уже четвертый год, не зная продыху, переворачивает с боку на бок целик? Как была степь до него, так она, степь, после него и останется. Тогда зачем он? Эх, надо было позвать с собой Егорку Дерюгина, сейчас бы спели песню, у Егорки уже хороший установился голос… А пить бы он ему не дал, так, чуть-чуть, для настроения…
Одним словом, Митька, как всякий истинно русский человек, вместо того чтобы натянуть себе на голову полу пиджака и хорошенько, прилично случаю, всхрапнуть, принялся ковыряться в мировой душе, да еще стараясь проникнуть поглубже, в самую суть. Он решил выпить еще для куражу, а в степи между тем вершилась своя, привычная жизнь. Из-за разогретого горизонта в темных куполообразных громадах подсвеченных облаков тонким краешком выглянула луна, помедлила и сразу подпрыгнула в небе, точно ее в последнюю минуту кто-то высоко подкинул, и она так и повисла беззвучно в густой синеве ночного неба, сразу наполнив мир серебристым движением и шепотом. Степь снова мягко заструилась на взгорках, только низины по-прежнему затаенно темнели; казалось, именно там, в них, в этих низинах, таилось теперь все живое, а все иное охвачено было каким-то колдовством; было странно и неловко видеть среди всего этого человека, жалко и неловко за него, так он был слаб, так случаен и ненужен в этом сверкающем, победном торжестве космических бесстрастных сил, творящих, ежеминутно разрушающих и воссоздающих красоту, которую вроде бы и вовсе не подобало видеть и понимать человеку… Так для кого же и для чего она тогда предназначалась, эта трепетная красота, ее ведь все равно нельзя было ни продлить, ни запечатлеть, ни осмыслить?
Читать дальше