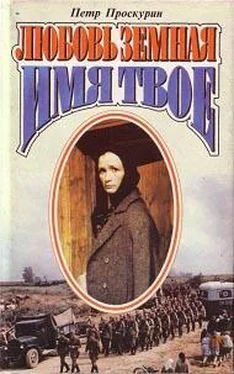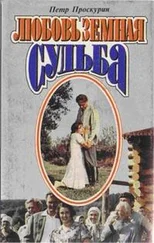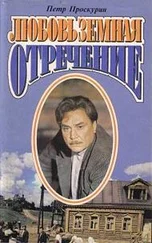— Ты ж бегал сколько раз! В горах воевал у этих, у словаков, — с некоторым недовольством, больше по привычке, напомнила Маня. — Они бы попробовали… через минное поле.
— Мало ли что, а кто докажет? — зло оборвал ее Захар и, видя, что она вся сникла, приобнял за плечи, прижал к себе. — Ну чем тебе здесь-то плохо?
— Мне не плохо, мне хорошо, — тотчас кинулась она ему навстречу. — Где ты, там и жизнь моя… Дети-то ни яблочка, ни молочка не видят… И люди кругом… волками друг на друга смотрят. Господи! Мы-то свое отжили, считай, детей бы в тепло вернуть. Васькa бы поддержать, слабенький он.
— Люди везде одинаковые, — помолчав, раздумчиво сказал Захар, — куда ни кинься, всюду одно и то же.
— Не говори, — успокаиваясь от его близости, Маня заговорила ровнее. — Ездили мы в пермяцкую деревню, ох, насмотрелась я. Чудно! — Маня оглянулась на дверь в комнату к детям и еще понизила голос: — Сидим это мы у одной, квасом угощает, а к ней, к матери значит, во-от такой подбегает ребятенок, — Маня, примериваясь, показала на метр от пола, — лет пять ему или шесть: «Матка, кричит, дай цицку, б…» У меня так и захолонуло в груди, а она хоть бы хны. Тут же и выпрастывает из кофты, он пососал, и только его и видели. Я прямо обмерла. Господи, ну и земля! Ну и обычаи! Подивилась я…
— Опять ты не туда глядишь, — засмеялся Захар. — Народ хороший, добрый, работящий… Обычай у них такой, у них такое за скверное слово не считается. Так, вроде красного словца… прибаутки.
— Не знаю, Захар, — не согласилась Маня. — Может, и для красного словца, а жить тут не по себе, страшно. Зима какая… конца нет. А мастера-то, Кирикова, как зарезали… Комендант-то, говорят, совсем спился… все с этим бандюгой, Загребой-то… Опутал коменданта со всех сторон…
— Нам, в чужое мешаться нечего, свое бы расхлебать, — нахмурился Захар.
— Да ведь не просто зарезали, говорят, в карты проиграли… Ну а как на тебя судьба укажет?
— Ты больше слушай, что говорят. Ты себе сколько хочешь знай, а болтай поменьше. Сопела бы себе в две дырки…
— Это ты меня учишь, Захарушка? — Глаза у Мани насмешливо заискрились.
— Учу, а что такого?
— Молчи уж, молчи, горе мое… Сам ты какой? Да, видать, правда твоя, хоть с ней совладать трудно. Загреба вон, зараза плюгавая, девок к себе тягает, он тут и бог и царь, выше — никого… А я вон позавчера зашла к Брыликам-то, в твоей бригаде еще, высокий такой хохол. Хотела тебе сразу сказать, все недосуг. — Захар кивнул, досадуя, что она разъясняет ему то, что он хорошо знает, и Маня заторопилась: — Захожу, значит… Олеся показать узор на кофточку обещала… ну, и обмерла. Семеро пар глаз на меня, все зеленые, все голодные. Старшей-то пятнадцать, а младшему четыре. Какая тут кофточка! Загреба-то, говорит Олеся, на старшую дочку глаз положил, они, видать, из одной местности. Неладно у них, Захар, так жалко детей-то. — Маня отвернулась, скрывая мучившую ее тревогу. — Какая уж там кофточка, какой узор, отнесла я им рыбину, взяла самую… поболе выбрала… Поневоле тоска западет, что ж на свете творится? Хоть тут, в Хибратках, хоть в Москве, у кого сила, тот и прав.
— Нижний этаж, говорят, у Загребы работает куда лучше верхнего, что точно, хоть с виду плюгавый человечишко, — как-то равнодушно подтвердил Захар.
— Что-что? — не поняла Маня, и Захар, взглянув на нее, рассмеялся; Маня, зарумянившись, снова потянулась к нему лучистым взглядом. — Люблю я тебя, черта, — призналась она. — Сама не пойму, за что… С тобой как-то и не страшно. — Оправив покрывало, сшитое из разноцветных лоскутков, она заглянула к сыновьям и принялась готовить ужин. Захар накинул на себя телогрейку, сунул ноги в глубокие галоши, склеенные из автомобильной шины, вышел, и тотчас вокруг привычно зазвенело комарье. И разговоры Мани, и письмо Егора растревожили его, хотелось побыть одному, но руки, лицо тотчас облепила мошкара; отмахиваясь от надоедливого гнуса, он поспешил вернуться. «Надо сказать Илюшке дымокур у порога поставить, — подумал он. — Пора уже».
Ночь выдалась маетная, несколько раз его поднимали приступы кашля, после полуночи сон и вовсе пропал. Он и сам, без напоминания Мани, знал, что жизнь прошла и теперь ничего не изменишь, привык он к этой мысли давно. Мать померла, без него похоронили, даже у могилки не посидел. Старший, Иван, сгинул, как и не было, а глаза зажмуришь, как живой глядит, я, говорит, все, батя, понимаю, я ничего… я так, показалось… ты как виноватый глядишь, а я ничего.
Захар неловко заворочался, до жуткой отчетливости ясно вспоминая тот тяжкий день в своей жизни, когда он заскочил в сарай, схватил в руки веревку и примерил взглядом расстояние от балки до земли, и если бы не застал его старший, Иван, со своим разговором насчет военного училища… Может, от этого грудь разламывает, так бы и выскочил из этих стен, — опять завозился он в душной сейчас постели. Да куда выскочишь-то? Тихон Брюханов в зятьях оказался, ну, это ли не потеха? Тихон Иванович Брюханов его, Захара, зять! Ай да Аленка! Ай да чертова девка! Ну и семя! — с горьким восхищением обругал он свою собственную породу, нашарил папиросы. От вспышки спички темнота отодвинулась, тени побежали по стенам. Он не мог представить себе и Егора взрослым, а тот пишет, что уже работает прицепщиком на тракторе у Митьки-партизана. И этого Митьку Волкова оп плохо помнил, и почему его прозвали партизаном, не знал, в партизанах-то, почитай, все село было, а Егор написать все забывал, хотя Захар просил об этом дважды. Но даже не это сейчас заботило Захара, ему отчетливо и больно подумалось, что зря он родился, себя и других мучил и никому — ни себе, ни бабам, которых любил и которые его любили, — не дал ни радости, ни счастья. Что же это за жизнь такая? — изумился он, жадно затягиваясь жарким дымом. — Не повезло мне, с самого начала пошло под горку, не остановишь. Мане легко говорить «уедем», а куда? Главное-то — зачем? Что переменится в жизни? Ничего не переменится. Был Захар-кобылятник, так и остался. Теперь же… ну, пойдет он к коменданту, вступится за этого хохла Брылика (говорят, каких-то бандеровцев укрывал), ну и что? Загреба со своей шайкой тут же пронюхает обо всем, пристукнет где-нибудь в глухомани, и следов не останется. Детей изводить начнут, черт-те что творится. Раков-то, комендант, в самом деле соплей оказался, хоть и фронтовик, контужен вроде под Варшавой… Черт-те что…
Читать дальше