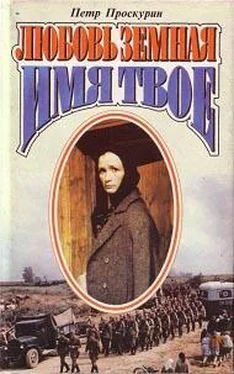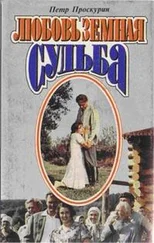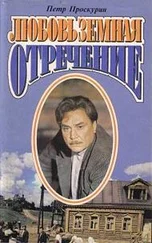Зной усиливается, с утра поднялся шехиль, голос раскаленных песков эвучит настойчивее. Карл Висмут натягивает на голову грязный брезент, и я вижу его расширенные от ужаса зрачки.
Нас все сильнее засасывает исступленный зов пустыни.
— Идти надо ночами, — говорит Адиль. — По звездам. Захватить с собой палатку и воду. Прикажи, начальник.
«Ах, будьте вы прокляты, — думаю я, неизвестно кого кляня. — Одна минута с Джозиной дороже всего золотого вапаса мира, а Джозина примет меня без всякого подарка. На что ей подарок? Я молод, здоров, силен, неутомим — что еще нужно женщине? О черт, черт, ты была права, моя маленькая Джозина!»
Настойчивое сладострастное пение песка раздирает мне мозг, и я вдруг вскакиваю и трясу головой, ругаюсь, ору что есть мочи и, чувствуя у себя на плечах чьи-то руки, вижу совсем близко смуглое лицо Мориса Бино, его спекшиеся тонкие губы.
— Замолчи, — говорит он. — Замолчи, сядь. Адиль, — приказывает он, — дай ему воды… полкружки.
Я гляжу на кружку с мутной жидкостью и отстраняю ее рукой, сажусь на свое место, и Адиль сливает воду обратно во флягу, и все понимающе молчат.
Джозина, маленькая моя! Скоро вечер, и наши колебания кончились. Морис Бино приказал всем отдыхать несколько часов. Спать. Спать… Мы все приготовили, даже несколько факелов на самый крайний случай. Ведь нам придется идти ночами. Задыхаясь, мы лежим, и никто не спит; мы лежим с закрытыми глазами, стараясь не смущать друг друга. Я не знаю, что думают в эти минуты другие, не знаю вообще, что можно думать, когда с каждым вздохом уходит частица твоей жизни. Я молод, мне двадцать, я был отчаянным парнем. Однажды меня привезли с тренировки с переломанным ребром, я только-только начинал тогда заниматься регби, это было еще при жизни отца, боль была ужасная, но я не пикнул. Молодые кости срастаются быстро, и теперь я думаю о тебе, маленькая моя, самоотверженная подруга. Стоит ли тебе рожать? Зачем вы рожаете, женщины, зачем мне было встречаться с Джозиной? Я уехал ради денег, ради нашего будущего благополучия, ради нашего мальчика, который может появиться по моему недомыслию. Нет, я не отговариваю тебя, Джозина, не надо делать ничего такого, о чем стоило бы жалеть. Но я многое бы отдал, чтобы очутиться сейчас рядом с тобой. Не знаю, не появится ли еще одно существо и не упрекнет ли оно когда-нибудь меня в неразумности? Я пытаюсь найти ответ в товарищах, но все они удручены и измучены — на их лицах подавленность и усталость.
Братья, — хочется мне спросить. — Скажите, все ли в нашей жизни правильно? Так ли нужно жить? Ну, ты, Морис, ты старший, ты много знал лишений и трудностей, ты отказывал себе во многом. Но ради чего? Где только ты не был! Но знал ли ты радость, простую радость быть? Так ли ты живешь? А ты, Адиль? Ты, не имеющий права жениться, потому что не имеешь денег? Что ты скажешь? Или Карл Висмут, обморозивший душу в снегах России? Ради чего мы все страдаем и мучимся? Ради процветания акционерного общества «Франция — Сахара»? Какое все мы, мы, Адиль, Карл Висмут, Морис, ты, русский Дерюгин, и я, француз Андре… Ставропольцев, имеем к этому отношение? Чтобы члены правления набивали себе карманы? Ради этого мы сдыхаем здесь, в этом песчаном аду?
— Пора, — говорит Морис. — Пора, ребята. Скоро появятся звезды, и мы пойдем.
Ночи холодны, но нам это на руку. Мы хоть немного отдыхаем от дневной жары. Ноги тонут в песке с бархана на бархан, с бархана на бархан. А в холодном и черном небе крупные, четкие звезды. Может быть, мне только кажется, что небо черное. Вчера забрели в заросли верблюжьей колючки и все изранились — проклятые иглы рвали брюки и прокалывали изношенные парусиновые башмаки.
Ночами — черное небо. Днями — грязный полог палатки, пересохшие, потрескавшиеся губы и бесконечные, как редкие капли, минуты, — каждая из них кажется последней.
Вчера ночью я несколько раз падал и больше не мог сам подняться, не хотел, и меня поднимали насильно, и я просил, чтобы меня оставили. Я не помню, сколько ночей мы идем, сколько дней прошло с тех пор, как я в последний раз оглянулся на брошенную машину. Я не знаю, куда идем и зачем. Я не могу идти дальше, и желание лечь — все сильнее, оно давит к земле, и только одно удерживает пока на ногах. Ведь заставят вставать и будут тратить последние силы, будут проклинать и все-таки поднимут.
Сегодня утром Дерюгин отдал мне свою воду, а у самого у него сухо блестели глаза и едва шевелились черные губы. Помню, я ни за что не хотел брать его воду, и все же выпил, и мне потом было стыдно, и я старался не смотреть в его сторону. А я считал его черствым, недалеким парнем. А вечером, перед тем как снова идти, я долго смотрел в металлическую крышку от фляги. В ней на дне плескалась темная, пахнущая жидкость, и мне было жалко проглотить ее сразу. Адиль уже не поет больше, а только молится и поминает имя аллаха.
Читать дальше