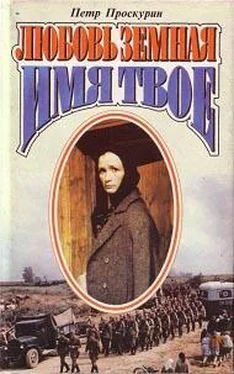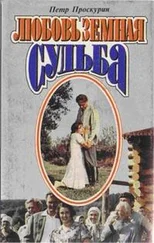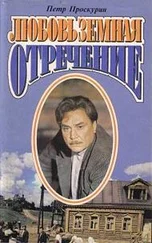Вера Дмитриевна встретила их в гостиной в наброшенном на плечи невесомом, тонкого рисунка, оренбургском платке. Брюханову всегда нравилась эта крупная, спокойная женщина; она и старилась красиво, почти не прибегая ко всяческим женским уловкам и притираниям; от нее всегда веяло уверенностью и тишиной, и жизнь рядом с нею сразу приобретала какие-то мягкие, осмысленные, обволакивающие формы. Взглянув на ее ясное, открытое лицо с круглыми ямочками, Брюханов почувствовал, как отпускает душу тревога. Он попытался представить себе Аленку в старости, но это было не близко, для него почти невероятно, и он отмахнулся от своей мысли, подавив в себе вспыхнувшее было что-то недоброе, вымыл руки; Чубарев пригласил его к столу, накрытому на двоих. Вера Дмитриевна заботливо поправила что-то на столе и тут же исчезла, плотно прикрыв за собой двустворчатую дверь, но Чубарев тотчас распахнул ее и сказал громко:
— Верочка, прошу тебя, кто бы ни звонил, меня нет дома. Ничего не изменится, если я узнаю о какой-нибудь очередной неприятности двумя часами позже. — Он решительно сел за стол и, с удовольствием окинув его беглым взглядом, потер руки. — Ну вот, прекрасно, мужская беседа, как у древних эллинов. Эта пресловутая эмансипация, уравнивание всего и всех, осточертела, ей-богу. Да и в общем-то во вред прогрессу. Садитесь, Тихон Иванович, садитесь, вначале самое насущное.
Они поужинали, перебрасываясь малозначащими словами и фразами, все более относящимися к качеству еды и кофе; при этом, несмотря на настойчивость вернувшейся и устроившейся в своем любимом кресле Веры Дмитриевны, Брюханов ел мало и неохотно. Чубарев предложил прогуляться по осеннему леску вдоль берега заводского водохранилища, и скоро они уже шли, шурша опавшими листьями, по редкой дубовой рощице, беспорядочно из края в край изборожденной тропинками.
— Последние годы, Тихон Иванович, я все больше встречаю людей, для которых свое личное остается важнее всего. Свое самолюбие, свое положение, свой карман. Отчего это? — спросил Чубарев, прислушиваясь к приглушенному смеху и плеску весел, доносившимся из темноты. — Неужели наше общество дряхлеет?
— Просто вы были моложе, Олег Максимович.
— Неправда! У старости тоже есть свои резоны… Если бы, конечно, она тоже, как и молодость, не имела обыкновения кончаться…
Какая-то ночная птица резко взмыла из кустов, спугнутая их шагами; остро пахло травой и прелым листом.
— Вы думаете, Лутаков на этом успокоится? — неожиданно вернулся Брюханов к утренней встрече.
— Не думаю. Но до нового, более удобного случая, пожалуй, будет ждать… Не дурак, но болезненно самолюбив и, если задеть, теряет голову. Ваше наследие, Тихон Иванович.
— Виновен, виновен, хотя и непричастен, — кивнул Брюханов, чувствуя, как начинают сыреть от росы туфли.
— Не будем об этом. В каждом конкретном случае кто-то виновен. Впрочем, что ж Лутаков? — вслух подумал Чубарев. — Нельзя же, допустим, от нас с вами потребовать рекорда на дальность перелета или того больше — высоты. Сердце лопнет. Другое, батенька, ужасно, сама идея извращается, пачкается… Сам-то Лутаков уверен, что он прекрасно ведет дело. Парадокс. А может быть, в данных обстоятельствах кто-либо другой на месте Лутакова, талантливее, умнее, принципиальнее, просто не нужен, вреден? Может быть, Лутаков как раз то, что нужно?
— Оригинальные у вас мысли, — неопределенно и не сразу сказал Брюханов.
— Жизнь, к сожалению или к счастью, допустим, состоит из компромиссов, приходится в ней вертеться по-всякому. — Чубарев по привычке попытался заглянуть в лицо собеседнику. — Как же, нам иногда и подумать надо. Вот я далек от сельского хозяйства, от его проблем, но коллектив завода ежегодно выезжает в подшефные хозяйства на свеклу и картофель. Вы это знаете и без меня. Деревня стареет, одни старики и женщины. Парни из армии почти никто не возвращаются, а за ними, разумеется, и девушки уходят. Вполне естественно. Разумеется, я понимаю, после такой войны стране очень, крайне тяжело, но ведь это не выход. Можно целые цехи заменить автоматикой, но люди никогда не смогут обходиться без хлеба. Мы подсекаем нечто такое, на чем стоим…
Чубарев, нечаянно задев за самое больное, заставил Брюханова взглянуть на себя по-другому; непривычно было слышать свои точно подслушанные мысли от такого сугубо городского человека, — у Брюханова появилось такое ощущение, словно он видит Чубарева впервые. Что ему холмские мужики и бабы? — спрашивал себя Брюханов. Что ему заколоченные деревни? Но ведь вот и у него болит душа, очевидно, каждый честный человек думает так же…
Читать дальше