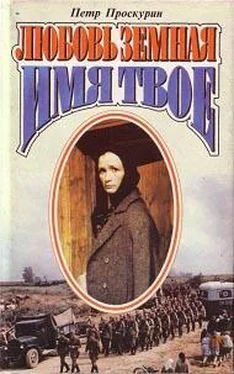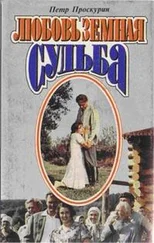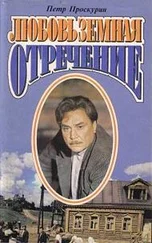В эту ночь Николай долго не мог заснуть; обрывки каких-то полузабытых разговоров, бессвязных мыслей мелькали перед ним; последние месяцы его не оставляло предчувствие близких перемен; ему все казалось, что вот сейчас, сию минуту, перед ним откроется нечто такое, отчего вся его жизнь переменится и сам он переменится; он не мог знать, что это его тревожное и счастливое предчувствие перемен уже и есть сами перемены, и все ждал, ждал, замирая, прислушиваясь к каждому шороху ночи, улавливая горячо раскрытыми глазами малейшее колебание теней. Ночь, стершая законы и привычки дня, была лунная, желто-томительная, густые, тусклые блики все гуще заполняли комнату. Чувствуя свое напрягшееся тело, Николай легко вскочил, прошлепал к окну и отдернул штору; стройный, фантастический мир возник перед ним: над спящим городом, над старыми деревьями, трепетно и податливо менявшими свою форму, струилось медленное, томительное свечение. Словно изнутри светились сами дома, улицы, старые тополя, струилось, казалось, само небо, и Николай с дрожью в сердце подумал, что все это существует и будет существовать без него. Как это — без него? — сразу же с безотчетным протестом всего своего молодого существа не согласился он, и руки его еще сильнее сжали край подоконника. Как же все это может быть без него? Чепуха! Нет, это невозможно, с этим нельзя примириться.
Николай не помнил, сколько прошло времени, ноги на холодном полу заледенели, но он этого не замечал, какая-то тревога росла в нем; резко, не думая о том, что может кого-то разбудить в доме, он распахнул окно, и тотчас в комнату ворвался осенний ветер и с ним тысячи загадочных, неразрешимых вопросов; как сухие осенние листья в порыве вихря, они, казалось, метались вокруг него, и ему хотелось закричать от счастья и ужаса; все это предназначалось ему и принадлежало ему — и поражение, и победы, и борьба, и бессилие, и так до самого последнего мгновения, когда исчезнет этот густой лунный свет, исчезнет потому, что исчезнет он сам. И, как однажды в детстве, когда умерла бабушка Авдотья (он хорошо помнил беспросветное чувство тоски и страха, охватившее его тогда), к нему сейчас снова пришло мучительное, почти сладостное чувство исчезновения; оно, это чувство, было теперь иным, чем тогда, да, впрочем, он лишь на мгновение и вспомнил, и сравнил эти два момента, прежний и нынешний. Теперь это был не просто страх исчезнуть, теперь это была какая-то мучительно-трепетная, почти чувственная дрожь всего тела, пронизанного протестом и неверием. «Нет, нет, нет, — говорил он себе, — этого не может быть, чтобы я тоже исчез, как исчезает все, этого просто не может быть, потому что я есть и мне хорошо быть, хочется быть! Нельзя взять и исчезнуть, так ведь не бывает, чтобы все это — и луна, и дома, и небо — осталось, а ты вот возьмешь и исчезнешь. Так не бывает, не должно быть, нельзя этому быть…»
Николай не замечал порывов резкого ночного ветра, его все больше обтекала подвижная, нескончаемая лунная стихия, бесплотный светящийся поток словно вымывал из него все материальные основы, его земную тяжесть, и это было настолько реальное чувство, что от него словно больше ничего не осталось, он плыл, невесомый, в голубой холодной пустоте, поднимаясь все выше и выше, растворяясь в лунном сиянии, и только оставалось еще мерцающей точкой в громадном пространстве его отчаянно трепещущее сердце. И теперь уже не боль, не мучительно-радостное страдание от собственной невесомости и высоты пронизывали его; он бы мог уничтожить и сотворить вновь весь этот звездный мир вокруг, всю эту беспредельность, но что-то словно парализовало его волю, и ему все сильнее хотелось вырваться из этой скованности, из этой зависимости…
Он очнулся, с трудом понимая, где он и что с ним, и только в ослабевшем теле еще ныло чувство полета, загадочной высоты и пронзительности и слегка звенело и кружилось в голове. И тут появилось что-то постороннее, ненужное, он растерянно вздрогнул и увидел маячившую в дверях Тимофеевну.
— Что вам, что? — спросил он злым, грубым шепотом, но Тимофеевна, в теплом халате, в туго повязанном платке, не обращая внимания, ахая, подошла, торопливо закрыла окно, плотно задернула шторы, и от нее пахнуло теплым, домашним, ласковым, и у Николая на глазах, сколько он ни удерживался, выступили слезы.
— Господи, что же это на мою голову? — вполголоса сердито приговаривала Тимофеевна, крепко обнимая Николая, который весь мелко и непрерывно дрожал, за плечи и насильно подводя его к кровати. — Да ты же простыл, горе мое… Лежи, лежи! — приказала она строго, укутывая его одеялом до самого подбородка. — Сейчас пойду молока согрею, навязались на мою голову!
Читать дальше