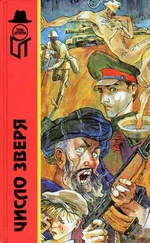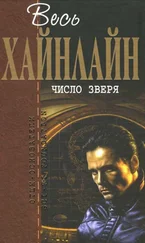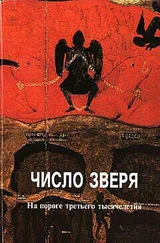«Да, товарищ Сталин, — подтвердил он, находя особые, несвойственные себе слова и втайне радуясь этому. — Коммунистам всегда было трудно, однако никто из них никогда не кричал на пустых дорогах и площадях… Это нехорошо, этого никак нельзя», — посоветовал он уже как старший, проживший большую жизнь и познавший больше, и эти его предостерегающие короткие слова озадачили Сталина. — Да, да, товарищ Сталин, никакой это не суд, всего лишь свет пришел…»
И Сталин, подавшись вперед, застыл. Он увидел себя лежащим в одних толстых носках и в пижаме у себя в столовой на даче, голова у него была неловко вывернута, в полуоткрытых глазах копилась влага и ужас, и он натужно хрипел. Какие то лица, полустертые, тяжкие, мельтешили над ним. Видел это и Брежнев, и сердце его заходилось от неизъяснимого чувства ожидания: Сталин не мог двинуть ни рукой, ни ногой и, попытавшись внутренне сосредоточиться, уже не обращал внимания на немыслимое унижение и хотел кого нибудь из проплывавших мимо в разреженной сероватой мгле позвать и приказать ему остановить происходящее. Этот кто нибудь был в круглых очках и с большими сизыми ушами, но он лишь приблизился, замахал неправдоподобно большими ушами и в нетерпеливом ожидании заглянул в ледяные, неподвижные, страдающие глаза Сталина, и тогда Сталин, а вместе с ним и Брежнев, все поняли. И тут же послышались доставляющие страдание, но усыпляющие и даже дарующие темное наслаждение слова, звучавшие как бы в них самих и возвестившие об истине. «Примите сущее, — послышался гулкий и вечный голос. — Примите сущее отныне и во веки веков, и ядите: сие есть тело Мое, и пейте из чаши сей, пейте из нее все, ибо сие есть кровь Моя, за многих изливаемая во оставление грехов. И да не минет никого чаша сия… аминь».
И тогда у Сталина вырвался долгий крик и словно пробудил его — он как бы вздрогнул и опомнился, затем коротким взмахом руки, отозвавшимся радостным ожиданием во всем его существе, на одно мгновение остановил движение на площади, уходящей в беспредельность, — плотная, послушная масса народа тотчас всколыхнулась и потекла в обратную сторону. Лишь на какой то короткий миг заставив Брежнева отшатнуться, эта людская масса взбучилась, схлестнулась встречными крутыми потоками, затем опала и ровно, упорядоченно устремилась теперь уже от гостиницы «Москва» к мосту, обтекая красноватую громаду Исторического музея. И это было уже другое движение и другой его состав. На площадь теперь выкатывались человеческие скопища с лопатами, ломами, топорами в руках; мешая друг другу, толпы людей толкали перед собой тачки и вагонетки; исхудалые до костей, с провалившимися глазами, они двигались плотной, спрессованной массой, и нельзя было понять, двигались ли они или просто тяжко копошились на одном и том же месте. Просто в берегах площади взбухало и пузырилось густое человеческое тесто — в этом сплошном вязком месиве живыми оставались одни лишь смеющиеся лица и глаза. Теперь и Брежнев с мистическим ужасом видел, что вся площадь смеялась — слитный, все поглощающий гулкий звук безбрежного, раскатистого смеха нависал над Кремлем, над Москвой, над всей землей, и от этого волосы на голове Брежнева встали дыбом. Ища объяснения и защиты, он обернулся к Сталину и тут же вновь отшатнулся — оскалившись и приподняв усы, Сталин громко хохотал.
«Нет, нет! — воскликнул он с дикой удалью, и глаза его бешено сверкнули. — Это же вулкан! Разбуженный вулкан! С ним никогда никому не справиться! Сама первозданная стихия! Ты только послушай, какой божественный гул! Музыка самих небес! Последний судный день — какой же дирижер здесь нужен!»
И он, торопливым жестом остановив хотевшего что то сказать Брежнева, вновь повернулся к площади — перед ним сейчас разворачивалась вторая, обычно погруженная во тьму ипостась жизни, и Брежнев видел, что эта потаенная сторона жизни ему ближе и нужнее — именно она еще раз подтверждала его путь, его борьбу и его правоту. И корни этого движения уходили в изначальные истоки человеческого рода — перед мавзолеем проползала сейчас оборотная сторона всего сущего, в пороках, в темных и тайных, нерассуждающих порывах плоти, залитая кровью, озаренная и сжигаемая ненавистью. И Сталин вновь обернулся к своему потрясенному случайному спутнику — даже ему, мыслящему эпохами, потребовалось нечто конкретное и понятное. И хотя Сталин сейчас ничего не говорил, Брежнев услышал его тихий размеренный голос, голос человека, привыкшего, чтобы к нему всегда, в любых обстоятельствах, прислушивались, и в этом голосе пробивалась потаенная жгучая радость, и в то же время звучало в нем почти страдание от осознания вновь открывшейся истины.
Читать дальше