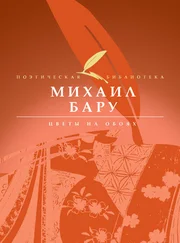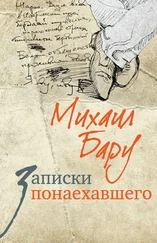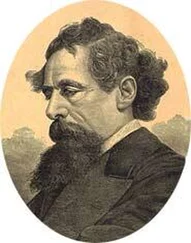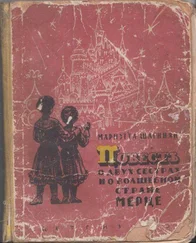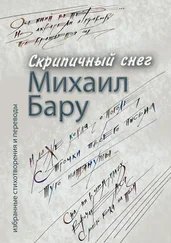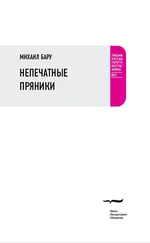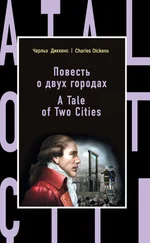* * *
Этим летом нашествие колорадских жуков. С картошкой они уже расправились. В соседней деревне были случаи нападения на животных и даже на людей. Тракторист вечером выпал из трактора покурить на картофельное поле, и к утру от него осталась только пустая бутылка. Этикетку – и ту сожрали полосатые сволочи. Никакие инсектициды их не берут. Ученые агрономы, правда, утверждают, что в период полового созревания колорадских жуков надо на грядки бросать что-нибудь полосатое – носки старые, матрасы, обрывки тельняшек. Жуки как их видят – так сразу с ними начинают спариваться. Не на этот – так хотя бы на следующий год их будет меньше. Говорят, что на том трактористе как раз были полосатые носки. Если бы у жуков имелось какое-нибудь обоняние – может, его бы и не тронули, но обоняния у них нет, и тракторист был обречен.
Туристу в Козьмодемьянск хорошо не приезжать, а приплывать по Волге. Если плыть из Москвы в Астрахань, то после Чебуреков, Чемоданов, Чебурашек, и немного не доходя до Чебоксар, как раз и будет Козьмодемьянск. С раннего утра на пристани ждут теплоход местные жители с вяленой чехонью и копченым лещом, глиняными свистульками, колокольчиками, магнитиками на холодильник, французскими духами в разлив, вареными раками, плетеными корзинками, малиной, черникой и клубникой в пластиковых стаканчиках и ведерках, пирожками с картошкой, рисом, луком и яйцом. Ждут туристов и экскурсоводы. Как только под громкие, пронзительные крики теплоходных массовиков-за-тейников их выведут на набережную, построят в колонны, оторвут от копченых магнитиков, вяленых колокольчиков, лещей с рисом, яйцами и картошкой, глиняных раков, плетеных корзинок, полных французской малины, черники и клубники в разлив тех, кто уже успел до них дорваться, – тотчас же, не давая опомниться и устремиться к новым неизведанным прилавкам, ведут в первый из четырех городских музеев.
Художественно-исторический музей Козьмодемьянска – вместе и картинная галерея, и краеведческий музей. Галерея он потому, что в самый разгар Гражданской войны казанские художники организовали Волжско-Камскую передвижную выставку с целью «приблизить искусство к народу». По мере того, как искусство приближалось к народу, к Козьмодемьянску, в котором остановилась выставка, приближался фронт. В Казань было возвращаться опасно, да и в Нижний плыть с картинами было, мягко говоря, неостроумно. Решили переждать месяц-другой. Потом третий-четвертый. Через год художник Григорьев, кстати уроженец Козьмодемьянска, на основе передвижной выставки, в которой были полотна Айвазовского, Левитана, Репина, Поленова, Шишкина и Маковского из частных собраний Казани, создает музей. Еще через два года исполком Козьмодемьянского уездного Совета со всей пролетарской решительностью постановляет «ввиду усиленной работы в области народного образования и как основателя музея тов. Григорьева, местный городской музей именовать музеем имени тов. Григорьева Александра Владимировича». Когда в тридцать восьмом году Григорьева, к тому времени одного из создателей и председателя Ассоциации художников революционной России, отправляют на восемь лет в лагеря, у музея его имя отбирают. В пятьдесят четвертом году Григорьева реабилитируют, в шестьдесят первом хоронят на Новодевичьем, и через пять лет возвращают музею его имя.
После того, как Григорьев вышел из Карлага, он жил в Тарусе и зарабатывал себе на жизнь тем, что писал вывески для столовых и закусочных. В художественной галерее Козьмодемьянска есть картины Григорьева, а вот вывесок нет ни одной. Понятно, почему их нет, но… жаль.
В краеведческом отделе музея все точно так же, как и в краеведческом отделе музея Галича, или Мурома, или Весьегонска – непременные бивни мамонтов, позеленевшие от времени ископаемые самовары, прялки, швейные машинки «Зингер», пушечные ядра, чучела волков, лосей, сов, стрельца в красном кафтане, граненые аптекарские пузырьки позапрошлого века, столетний ржавый аппарат для тайного голосования шарами и статуэтки пляшущих под гармонь мужиков то ли кузнецовского, то ли поповского фарфора. Раз уж зашла речь о статуэтках, то надобно признаться – более всех мне понравилась та, что называлась «Конь в пальто», представлявшая белого коня в черных круглых очках и бордовом пальто, из кармана которого торчит журнал «Огонек». Впрочем, никакого отношения к фарфору она не имела, была сделана из пластмассы, толстого сукна, проволоки и стояла в зале современного искусства.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
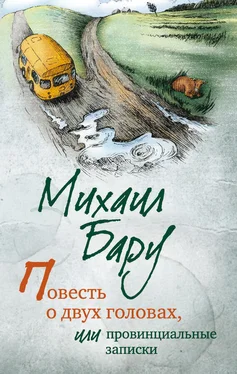
![Леонид Резник - Диктатор поневоле [Фантастическая повесть в двух частях]](/books/26775/leonid-reznik-diktator-ponevole-fantasticheskaya-po-thumb.webp)