— Это не всем понравится, — заметил Струэнсе.
— Но вам, доктор Струэнсе, это нравится?
— Да. И мы сделаем еще намного, намного больше.
И тогда Кристиан попросил. Этого Струэнсе не забыть; это было всего лишь месяц спустя после того, как книга выпала у него из рук, и он перешел границу самого запретного. Кристиан придвинулся вплотную к нему, слабое октябрьское солнце заглянуло в комнату, образовав на полу большой четырехугольник, и тогда он это сказал.
— Доктор Струэнсе, — сказал Кристиан тихим голосом и так серьезно, словно он никогда не был тем безумным мальчиком, который играл под министерским столом со своим пажом и собакой. — Доктор Струэнсе, я вас настоятельно прошу. Королева одинока. Позаботьтесь о ней.
Струэнсе просто остолбенел.
Он положил перо и через некоторое время сказал:
— Что Ваше Величество имеет в виду? Я Вас не совсем понимаю.
— Вы все понимаете. Позаботьтесь о ней. Я не в силах нести эту ношу.
— Как я должен это понимать?
— Вы все понимаете. Я люблю вас.
Возразить на это Струэнсе было нечего.
Он понял и не понял. Неужели король знает? Но Кристиан лишь слегка коснулся его руки, посмотрел на него с улыбкой, столь болезненно неуверенной и одновременно столь прекрасной, что Струэнсе ее уже не забыть, и потом он, едва заметным движением, соскользнул со стола и вернулся к маленькому негритенку и собаке под стол, где боль была невидимой, и черный факел не горел, а существовали лишь собака и негритенок.
И где все являло собой тихое счастье и преданность в той единственной семье, которая досталась Кристиану VII.
Гульберг присутствовал при том, как разоружалась лейб-гвардия, и, к своему удивлению, увидел, что граф Рантцау тоже пришел понаблюдать за этой новой, предпринимаемой в целях экономии, мерой.
Сбор оружия, предметов одежды. Роспуск по домам.
Гульберг подошел к Рантцау и поздоровался; вместе и в полном молчании они наблюдали за этой церемонией.
— Преобразование Дании, — выжидающе сказал Рантцау.
— Да, — откликнулся Гульберг, — сейчас происходит много преобразований. Все делается в очень быстром темпе, как вам известно. Насколько я понимаю, вас это радует. Ваш друг, Молчун, чрезвычайно расторопен. Я сегодня утром прочитал еще и декрет «О свободомыслии и свободе слова». Как неосторожно с вашей стороны. Упразднять цензуру. Очень неосторожно.
— Что вы имеете в виду?
— Этот немец не понимает, что свобода может быть использована против него самого. Если этому народу дать свободу, начнут писать памфлеты. Возможно, и против него самого. То есть против вас. Если вы его друг.
— И что же, — спросил Рантцау, — будет содержаться в этих памфлетах? Как вы полагаете? Или вы знаете?
— Народ так непредсказуем. Возможно, будут написаны откровенные памфлеты, рассказывающие правду и распаляющие несведущие массы.
Рантцау не ответил.
— Против вас, — повторил Гульберг.
— Я не понимаю.
— Массы, к сожалению, не понимают благодати просвещения. К сожалению. Для вас. Массы интересуются лишь грязью. Слухами.
— Какими слухами? — спросил Рантцау, на этот раз очень холодно и настороженно.
— Вам, вероятно, это известно.
Гульберг посмотрел на него своими немигающими волчьими глазами и на мгновение ощутил нечто похожее на триумф. Только такие, совершенно незначительные и всеми пренебрегаемые люди, как он, ничего не боятся. Он знал, что Рантцау — это пугало. Этот Рантцау, с его презрением к чести, обычаям и к парвеню. Как же должен он был, в глубине души, презирать своего друга Струэнсе! Парвеню Струэнсе! Это было совершенно очевидно.
Он презирал всех парвеню. Включая Гульберга. Сына владельца похоронной конторы из Хорсенса. Хотя разница между ними заключалась в том, что Гульберг мог не испытывать страха. И поэтому они стояли здесь — парвеню из Хорсенса и глупец-просветитель граф, — как два ненавидящих друг друга врага, и Гульберг мог говорить все это спокойным голосом, словно бы опасности и не было. Словно бы власть Струэнсе была лишь забавным или пугающим эпизодом в истории; и он знал, что Рантцау известно, что такое страх.
— Какими слухами? — повторил Рантцау.
— Слухами о Струэнсе, — сухо ответил Гульберг, — говорят, что эта юная распутная королева уже раскрыла перед ним свое лоно. Нам не хватает только доказательств. Но мы их добудем.
Рантцау, лишившись дара речи, уставился на Гульберга, как будто был просто не в силах осознать, что кто-то способен выдвигать столь неслыханные обвинения.
Читать дальше
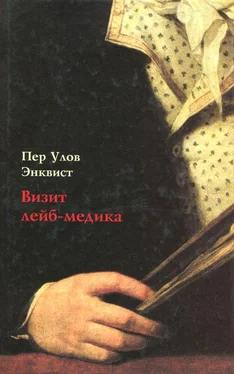






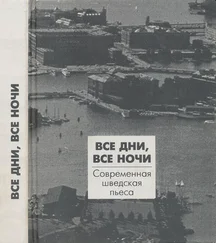
![Пер Энквист - Библиотека капитана Немо [Роман]](/books/396658/per-enkvist-biblioteka-kapitana-nemo-roman-thumb.webp)



