С Катрин он вновь обрел потерянную с королевой невинность.
Минуты, когда он представлял себе, что королевский двор был миром, за пределами которого ничего не существовало, вселяли в него ужас.
Тогда являлись сны о сержанте Мёрле.
До того, как ему подарили собаку, сколько-нибудь нормальный сон был просто невозможен; с появлением собаки стало немного лучше. Собака спала в его постели, и он мог повторять ей свои реплики.
Собака спала, а он повторял реплики, пока страх не отступал.
За пределами придворного мира дело обстояло хуже. Он всегда боялся Дании. Дания была чем-то, существовавшим за рамками его реплик. Там, снаружи, не было реплик для повторения, и то, что было снаружи, никак не вязалось с тем, что было внутри.
Снаружи все было таким невероятно грязным и непонятным, все, казалось, работали, были чем-то заняты и не соблюдали церемоний; он восхищался тем, что было снаружи, и мечтал туда сбежать. Господин Вольтер рассказывал в своих письмах и трудах о том, как все должно было быть там, снаружи. Снаружи существовало и нечто, что можно было называть добротой.
Там, снаружи, существовали величайшая доброта и величайшее зло, как при казни сержанта Мёрля. Но как бы там ни было, заучить это было нельзя.
Именно отсутствие церемоний манило и отпугивало его.
Катрин же являла собой абсолютную доброту. Доброта была абсолютной, поскольку кроме нее там ничего не было, и поскольку она включала в себя его, исключая все остальное.
Поэтому он и отправился на поиски Катрин. И поэтому он ее нашел.
Когда он пришел, она предложила ему молоко и булочки. Это было совершенно необъяснимо.
Он выпил молока и съел одну булочку.
Он подумал, что это было словно причастие.
Мир состоял не из одного лишь королевского двора, но ему показалось, что он нашел рай; рай находился в маленькой комнате за борделем, на улице Студиестрэде, 12.
Там он и нашел ее.
В комнате были голые стены, как и при дворе. Однако была постель; несколько минут, причинивших ему некоторую боль, ему мерещилось то, что происходило в этой постели, и те, кто ею пользовался; все это промелькнуло, как рисунки, которые однажды показывал ему Хольк и которые он оставил у себя и использовал, предаваясь пороку; тому пороку, когда он сам касался своего члена, всматриваясь в картинку. Почему же тогда Всемогущий Господь наградил его этим пороком? Было ли это знаком того, что он входит в число семерых? И как мог человек, являвшийся Господним избранником, обладать пороком, считавшимся еще худшим грехом, чем распутство придворных; эти картинки промелькнули перед ним, когда он увидел ее постель, но он сделался твердым, и они исчезли.
Он ведь предавался пороку только когда волновался и думал о своем грехе. Порок его успокаивал. Он рассматривал свой порок как средство, при помощи которого Всемогущий Господь приносил ему успокоение. И теперь эти картинки промелькнули, но он от них отмахнулся.
Катрин не была частью картинок, являвших собой порок и грех.
Он увидел ее постель, появились эти картинки, и тогда он сделался твердым, и картинки исчезли. Катрин подала ему знак. Молоко и булочки были неким знаком. Когда она взглянула на него, он вновь вернулся в эту теплую околоплодную жидкость, и — никаких картинок. Она ни о чем не спрашивала. Они разделись.
Никаких забытых реплик.
Они стали заниматься любовью. Он вскарабкался на нее, словно тоненький бледный цветочный стебелек лег на ее темное тело. Он ведь помнил то непостижимое, что она сказала ему: будто он был словно цветок. Только Катрин могла сказать нечто подобное, не вызвав у него смеха. Для нее все было чистым. Она в нем и в себе! в себе!!! изгнала торговцев нечистотой.
Значит, она была храмом.
Уже потом, когда он, потный и опустошенный, лежал на ней, он начал шептать и спрашивать.
— Я был сильным? — спросил он, — Катрин, ты должна сказать мне, был ли я сильным, сильным???
— Идиот, — сказала она сперва, но так, что это сделало его счастливым. И он спросил снова.
— Да, дорогой, — сказала она, — а теперь помолчи, ты должен научиться, ты не должен ни спрашивать, ни разговаривать, — вы что, обычно так спрашиваете при дворе? — помолчи и поспи.
— Ты знаешь, кто я? — спросил он, но она только рассмеялась.
— Я! я! крестьянский сын, родившийся восемнадцать лет назад в деревне Хирсхальс у бедных родителей, и я не тот, не тот, кто ты думаешь.
— Да, да, — прошептала она.
— Разве я не похож на крестьянского сына, ты ведь так многих знаешь?
Читать дальше
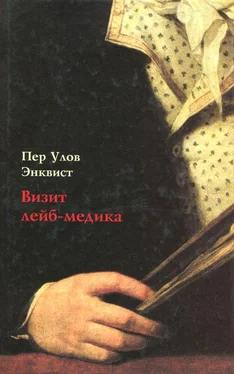






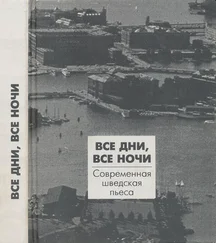
![Пер Энквист - Библиотека капитана Немо [Роман]](/books/396658/per-enkvist-biblioteka-kapitana-nemo-roman-thumb.webp)



