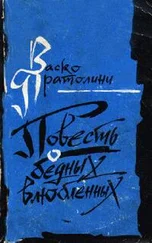Немного подальше какой-то паренек попросил у нас прикурить, подмигнул и сказал:
— Запрещается! Пасха!
В этом общем расположении духа не было ни ханжества, ни благочестия, в нем ощущалось безотчетное стремление уйти в круг самых близких и любимых людей, словно для того, чтобы испытать прочность их привязанности, и это чувство было гораздо глубже полузабытом обрядности. На каждом лице ясно можно было прочесть удовлетворение: как хорошо иметь семью и чувствовать себя под ее защитой.
Ты шел рядом со мной, элегантный и серьезный, поглядывая себе под ноги, на мостовую, местами выщербленную, усеянную отбросами, бумажками, конским навозом. Мы вышли на прямой, чисто подметенный бульвар; на деревьях уже зазеленела листва. Сегодня ты не возбуждал во мне желания поделиться с тобой мыслями.
— Ты рад, что проводишь пасху со мной и с бабушкой? — спросил я. И добавил: — Это первая пасха, которую ты проводишь в семье.
Ты посмотрел на меня немного удивленно, слегка улыбнулся и сказал:
— А почему мы не пошли к нашему отцу? Тогда обошлось бы без всяких осложнений.
— Верно, наш отец приглашал нас. Но потом я решил отказаться — подумал, что ты будешь себя неловко чувствовать.
— Хм, хм, — промычал ты неопределенно.
Дверь открыла дочь Семиры, вся семья встретила нас приветливо, каждому поднесли по стакану наливки. Хозяева предложили провести праздник у них, но я, должно быть из духа противоречия, упорно отказывался, видя, что ты бы с радостью согласился, «чтобы избежать неприятностей».
— А где бабушка?
— Она тут рядом, сейчас придет.
— А вот и бабушка! — воскликнула Семира, открывая кухонную дверь.
На пороге появилась наша бабушка, но она совсем преобразилась. На ней было зеленое, узкое в плечах платье из тяжелой материи, напоминавшей парчу, с черным бархатным воротничком; с шеи, словно епитрахиль, ниспадал черный шелковый платок, а широкая юбка доходила до щиколоток. Бабушка уложила волосы узлом на затылке; в ушах красовались черные с золотыми ободками серьги. Сложив руки, бабушка ступала слегка неуверенно, точно девочка, которая в первый раз подходит к причастию: лицо ее выражало робкую радость и волнение.
— Бабушка-то наша как нарядилась, — сказала Семира. — А вот и женихи. Ей прямо не терпится их расцеловать.
Мы оба одновременно кинулись к бабушке, и она заключила нас в объятия. Потом, словно извиняясь перед друзьями, сказала:
— Ведь за всю жизнь я ни разу не обнимала их обоих сразу.
Я поглаживал ее руку и скоро узнал это платье: бабушка надевала его только по большим праздникам, а таких праздников после смерти матери у нас было так мало, вернее сказать — совсем не было. Ты сносил нежности бабушки с улыбкой и говорил ей:
— Вы такая нарядная, бабушка . Точно настоящая синьора.
— Видите, — заметила Семира. — Раз он говорит, значит так и есть, ведь он-то уж знает толк в нарядах.
— Это хорошее платье. Мне сшила его ваша мать за
несколько месяцев до смерти. Я его и десяти раз-то, верно, не надевала. Из нарядных платьев оно одно у меня и осталось. Как умру, вы меня в него и обрядите, только не позабудьте. Я отдаю его на хранение Семире.
Бабушка была уверена, что мы примем приглашение Семиры; она боялась выйти на улицу в нарядном платье.
— Если за мной проследит какая-нибудь монахиня, мне на три месяца запретят отлучаться из богадельни и занесут в список поднадзорных. Сестра Клементина отберет у меня ночной горшок. Мне боязно. Но я настаивал, да и ты поддержал меня.
— Мы будем осторожны и загородим тебя.
Семира сказала бабушке:
— Если я и теперь буду уговаривать вас остаться, вы можете обидеться. Да и кто вас, Роза, узнает? Вы совсем преобразились!
— Мы возьмем пролетку, — сказал я.
Но бабушка отказывалась, церемонная, словно молоденькая девушка, решившая каприза, ради отказаться от прогулки, которая доставила бы ей столько радости. Касаясь губами ее уха, я шепнул:
— Втроем нам будет свободнее. И потом — Ферруччо здесь неловко себя чувствует.
— Зато денег меньше уйдет, — возразила бабушка. Я понял, что она понемногу сдается.
У Порта Романа пролеток не было, и мы решили взять такси. Однако бабушка отказывалась.
— Куда это вы собрались?
— В «Оресте».
— Да вы с ума сошли! Нас оттуда вышвырнут.
Ты улыбался, в твоем отношении к бабушке проскальзывала снисходительность, и я не мог понять, что это — симпатия или пренебрежение.
Читать дальше