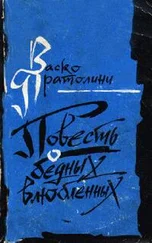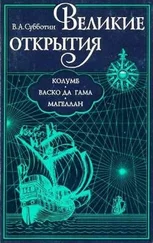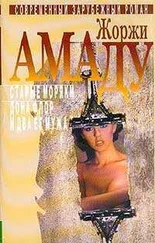— Да, конечно, я помню.
Каждый день она ждала вестей от папы и всякий раз нервно дважды пробегала письмо; оставшись одна в своей комнате, она, верно, снова перечитывала его, потом входила в гостиную и, бросив письмо на стол, говорила:
— Ну вот, он написал. Но не плакала.
Из окна казармы новые друзья кидали нам теперь хлеб и банки мясных консервов. Дары принимала бабушка. Солдаты говорили:
— Сварите суп мальчонке, нам хватает, вы не беспокойтесь.
(Два года — это много для ребенка, он ведь растет. Теперь он знает, что такое война, научился обходиться без многого, что любил раньше. Мама больше не ходит по утрам за покупками; бабушка встает ни свет ни заря и отправляется «в очередь». А бывает и так: после того как бабушка поговорит с одним из солдат, ребенку дают глиняную миску: это уже не новость для него, он знает, что надо делать. Он спускается по лестнице, перебегает улицу, встает в очередь вместе с другими детьми и женщинами у дверей школы-казармы, поодаль от часового, и ждет. Появляется один из его друзей солдат, выводит его из очереди, берет миску, уходит, возвращается и приносит ему густого, вкусно пахнущего супа. Кто-то из очереди протестует:
— Особенный он, что ли, этот мальчишка?
Другой отвечает:
— Мама у него красивая — вот что.
А мама лежит в своей комнате: больна у нас мама; все же по вечерам она выходит в гостиную и говорит бабушке:
— Есть у меня температура или нет — все равно я завтра иду в мастерскую.)
Теперь я долгие часы простаивал на коленях на стуле, оглядывая с балкона улицу, где ходили взад и вперед солдаты и в определенные часы выстраивалась очередь бедняков, ждавших подачки. В казарме солдаты появлялись и снова исчезали; иногда кто-нибудь из них подходил к окну, небрежно махал мне рукой, спрашивал:
— Ну, как живешь? Или:
— Есть письмо от папы? Или же:
— В школу ходишь?
Эти вопросы требовали односложных ответов: «да» или «нет». Я стал на два года старше и мне уже стыдно было говорить, что я знаю неприличную песенку, или спрашивать, умеют ли они подражать птичьему пению: не то, чтобы мне это было неинтересно, — просто я боялся не получить ответа.
Однажды явился Кадорин; он зашел к нам домой, много рассказывал о войне и остался ужинать. Он сказал, что здесь он только проездом и ночью уезжает. Он очень похудел и поэтому показался мне красивее, чем прежде. Он сказал также, что искал папу и попал в одну деревушку всего через несколько часов после того, как папин полк выступил оттуда на передовую. В честь Кадорина была зажжена керосиновая лампа, висевшая посреди гостиной, и квартира вдруг преобразилась, я не привык видеть ее такой вечером. Я сказал:
— Смотри-ка, и по вечерам можно различать цвета.
Мне показалось, что я сделал большое открытие.
Мы ужинали в гостиной за круглым столом, при свете керосиновой лампы, которую можно было опускать и поднимать на цепочке. Кадорин сидел между мной и мамой; она пыталась улыбнуться, как прежде, но улыбка выходила словно у больного, который хочет показать своим родным, что он здоров, или словно у человека, который долго страдал, но не отчаялся и с жалостью и состраданием смотрит на окружающих. Бабушка то и дело отлучалась на кухню. Когда она вышла, солдат сказал маме:
— Почему вы мне на письмо не ответили?
Мама помедлила, трогая вилку, потом подняла глаза и сказала:
— Потому что нечего было отвечать, — и улыбнулась своей прежней улыбкой.
Когда бабушка снова вышла, чтобы принести кушанье, Кадорин сказал:
— Война иногда выкидывает странные шутки. Вобьешь себе что-нибудь в голову крепко-накрепко. И тогда, если даже другим ты кажешься героем, сам-то себя чувствуешь таким несчастным, хуже некуда. Но потом от пустяка все может пройти.
На время болезни мамы меня отправили жить на окраину, к родственникам, которые незадолго до этого сняли квартиру в казенных домах. Строительство таких зданий началось еще в мирное время, и в первые военные годы были закончены два больших корпуса; их разделял двор, посреди которого стояла прачечная общего пользования. За домами тянулась полоса маленьких огородиков, отделенных друг от друга металлической решеткой и принадлежавших жильцам. Эти огородики, в силу молчаливого соревнования между их хозяевами-любителями, были тщательно обработаны. Жильцы сажали там салат, помидоры, кабачки, какой-нибудь уголок обязательно был отведен под цветы. В огородике моего дяди цвело осенью несколько желтых хризантем. Казенные дома населяло около сотни семей. Дядина квартира была на верхнем этаже правого корпуса. Балкончик выходил на огороды, окна гостиной — на реку Муньоне, а другие комнаты — на незамощенную улицу, по другую сторону которой пока не было домов.
Читать дальше