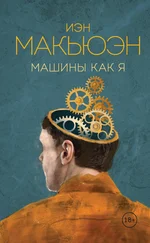Мы пьем его в «гнетущем молчании». Во всяком случае, так пьют чай Мойра и ее муж Дэниел (идущий в гору администратор разливного завода), переваривая новость о том, что у них нет физиологических препятствий к деторождению. Потом они решают вновь попытаться (хорошее словцо) зачать ребенка. Вообще-то я отменно пью глоточками, но молчание, каким бы оно ни было, меня напрягает. Чашку я держу на отлете и обаятельно вытягиваю к ней сложенные трубочкой губы. При этом закатываю глаза. Было время (особенно запомнился первый раз), когда это представление вызывало улыбку на менее подвижных губах Салли Кли. Сейчас я прихлебываю кофе скованно и, вернув глазные яблоки на место, не вижу улыбки на лице Салли Кли, чьи бледные безволосые пальцы барабанят по отполированной столешнице. Она доливает себе кофе и выходит из комнаты, а я прислушиваюсь к ее шагам на лестнице.
Как уже было сказано, мое присутствие неуместно, и потому я сижу в столовой, но мысленно я рядом с ней. Вот она поднимается по лестнице, входит в спальню и садится за стол. Я слышу, как она заправляет в машинку желтоватый лист формата А4 — на точно такой же бумаге был легко сочинен ее первый роман. Теперь она проверяет, что установлен двойной пробел. Лишь письма друзьям, агенту и издателю она печатает через один интервал. Далее следует решительный удар по клавише абзаца, чтобы создать аккуратный желтоватый прогал в начале предложения, который окружат слова. Дом погружается в благоговейную тишину, а я начинаю ерзать на стуле, непроизвольно издавая писклявые вскрики. Два с половиной года Салли Кли сражается не со словами, предложениями и идеями, но с формой произведения или, скорее, с тактикой действий. Может быть, молчание стоит нарушить рассказом, в котором была бы исчерпывающе выражена единственная, но хрупко-изящная мысль? Да, но какая мысль и в какие слова ее облечь? К тому же всем известно, что хороший рассказ написать труднее, чем роман, а посредственных историй и без того пруд пруди. Может, накатать еще роман про Мойру Силлито? Закрыв глаза, Салли Кли пристально вглядывается в свою героиню и понимает, что уже написала о ней все, что знает. Нет, второй роман должен быть свободен от первого. «А что, если повествование развернется в джунглях Южной Америки?» — осторожно прикидываю я. Какая нелепость! Но тогда что? С пустой страницы выглядывает Мойра Силлито. «Напиши обо мне», — просто говорит она. «Не могу! — выкрикивает Салли Кли, — Про тебя я больше ничего не знаю!» — «Ну пожалуйста», — настырничает Мойра. «Оставь меня в покое!» — орет Салли Кли. «Про меня, про меня», — ноет Мойра. «Нет! — вопит Салли, — Я ничего не знаю! Ненавижу тебя! Отвали!»
Крики Салли Кли протыкают многочасовую напряженную тишину, я вскакиваю, ноги мои дрожат. Привыкну ли я когда-нибудь к этим ужасным воплям, от которых густеет и коробится воздух? Когда я спокоен и размышляю, я напоминаю знаменитые гравюры Эдварда Мунка, [4] Эдвард Мунк (1863–1944) — норвежский живописец, график и театральный художник, один из основоположников экспрессионизма.
но сейчас я мечусь по столовой и не могу заглушить взволнованный визг, который рвется из меня в минуты паники или возбуждения и который, по мнению Салли Кли, снижает мою романтическую привлекательность. По ночам Салли кричит во сне, но мой собственный жалобный скулеж напрочь лишает меня возможности ее утешить. Мойру тоже мучили кошмары, о чем без обиняков заявлено в первой же строке первого романа: «Той ночью, проснувшись от собственного крика, бледная Мойра Силлито соскочила с кровати…» «Йоркшир пост» была одной из немногих газет, отметивших подобное начало, но, к сожалению, сочла его «чересчур уж энергичным». Разумеется, для успокоения у Мойры имеется муж, и к концу второй страницы она, «точно маленький ребенок, засыпает в крепких объятьях молодого мужчины». В удивленной рецензии феминистский журнал «Непокорница» цитирует эту строчку, дабы уличить автора в излишности слова «маленький», а весь роман в «банальной дискриминации по половому признаку». Однако мне эта строчка кажется трогательной, тем более что в ней говорится именно о том утешении, какое глухой ночью я бы хотел принести ее автору.
Я слышу скрип стула и затихаю. Сейчас Салли Кли спустится в кухню, чтобы наполнить чашку остывшим черным кофе, а затем вернется к столу. На случай, если она заглянет в столовую, я забираюсь в шезлонг и принимаю вид озабоченной обезьяны. Нынче она проходит мимо, мелькнув в дверном проеме; чашка дребезжит на блюдце, чем выдает ее состояние нервного отчаяния. Потом я слышу, как она вынимает лист из машинки и вставляет новый. Затем она вздыхает, ударяет по клавише абзаца, откидывает с глаз волосы и начинает печатать с рациональной устойчивой скоростью сорок слов в минуту. Просто музыка. Я вытягиваюсь на шезлонге и уплываю в послеобеденную дрему.
Читать дальше


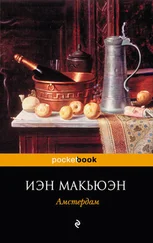







![Иэн Макьюэн - Таракан [litres]](/books/435106/ien-makyuen-tarakan-litres-thumb.webp)