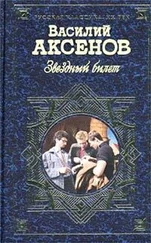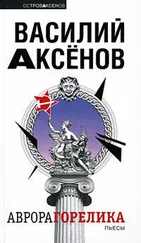Едва ли не каждую неделю появлялась она перед миллионами «сограждан усталых», никогда не изменяя себе, не подхалимствуя власти, но только лишь делая вид, что власти этой, с ее страннейшей системой логики, просто нет на дворе. Есть мир красоты, как бы настаивала она, он существует, есть русская речь, прекрасные архаические обороты, есть белый снег и холмы Грузии, тени Пушкина и Лермонтова, жива убиенная вами Марина, День-Рафаэль встает над ровныя долины…
Быть может, власть эту, которая лишь только лестью и ложью жива, такая «позиция художника» и не устраивала, однако людей власти сама художница восхищала: так далеко зашли дела. Министр телевидения нередко снимал с полки томик Ахмадулиной и застывал в задумчивости, как мусульманин на намазе, жены гэбистов шептали строки ее стихов. Что ж, ведь нельзя ж и эту публику не делить, одним миром мазать. Помнится, в одной компании случилось быть nape-другой таких молодцов. Поднабравшись, стали выяснять, кто крупней по части человеческих качеств. Один сказал: я хоть и на государство работаю (так у них называется принадлежность к тайному ордену), а подлостей не делаю. Раз пять за вечер повторена была эта фраза.
Белла в этот период стала уподобляться антикварной мебели. В «домах» полагалось ее иметь – реставрируемое благородство. В какой-то степени она, будто герой из «Хулио Хуренито», как бы выписала себе справку о протекции государства в качестве памятника старины. Времена изменились, и уже не требовалось мандельштамовской «прививки от расстрела».
Все противоречило социалистическому реализму, не говоря уже о «цветаевской теме». Перешедший по наследству образ Пушкина говорил о кризисном перевале в русской культуре. Конвульсия пушкинского мира в цветаевской поэзии, возникновение нового пушкинского мира в поэзии Ахмадулиной; усыновление курчавого поэта (попутно и юный внук Арсеньевой усыновлен), эзотерические связи, молитвы – все принималось новым советским потребителем на ура. Ах, восхитительно! В старинном кресле на сцене Консерватории, под звуки Берлиоза, уже как бы подобием памятника дедушке Крылову… И ничего ведь не требовалось в ответ, лишь только сохранение вечной изящности, в которую не входят – ну, что там говорить об этом – лишь суетное цепляние за дружеские союзы да собственный поход по приокской грязи… «в рассеяных угодьях Ориона», в которых «не упастись от мысли обо всем»…
И все-таки ведь это была она, уже когда-то, еще в юности, восставшая против собственной изящной всеприемливости, та, за которой «дождь, как маленькая дочь» увязался и не отстанет. Сомнительно, что приживется в гостиных «зрелого социализма» среди коньяков, каминов и хрусталей поэт, уже тогда заметивший всеобщее настроение:
Дождливость есть оплошность
пустых небес. Ура!
О пошлость, ты не подлость,
ты лишь уют ума.
Отчетливо видит поэт и «убийцу в сером пиджаке», перед которым его жертва стоит навытяжку, и верность ее друзьям – не под вопросом, под вопросом обратное – верность и чистота помыслов ее друзей на «площади Восстанья, в пол-шестого»…
Сказав выше, что образ поэта своего времени всегда выходит за пределы его словесного контура, я имел в виду, кроме прочего, и нравственный его облик, его душевную стойкость, даже его участие в литературном сопротивлении.
Белла дала свое имя «Метрополю», Дмитрий, не потому что ей кусочка Вашей (неофициальной) славы захотелось, а потому что лучшего места ей было не найти для множества ее собак и той одной собаки. С этой же жгущей потребностью разместить своих собак она бросалась в бесплодный бой за Сахарова, тащилась в Шереметьево, чтобы посигналить на прощание своей оберегающей рукой и нам, и Копелевым, и Войновичам, и Владимовым.
В калашном ряду, конечно, рассудят, почему и, главное, зачем Ахмадулина «пошла в народ»; мы, простаки, скажем спасибо любому побуждению, благодаря которому в нашей словесности появился цикл стихов «Сто первый километр».
Родная затоваренная бочкотара, она, как ей и полагается, еще жива на холмах и в оврагах меж селами Пачево, Алекино и Ладыжино; всегда еще жива. Конь Мальчик, баба Маня, к автору стихов обращающаяся со словом «андел», безвременно ушедший Французов (кажись, сродни Володе Телескопову?), цветок будущего Пашка… Последний достоин того, чтобы стихотворение, ему посвященное, было здесь приведено полностью.
Пять лет. Изнежен. Столько же запуган.
Конфетами отравлен. Одинок.
То зацелуют, то задвинут в угол.
Побьют. Потом всплакнут: прости, сынок.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу