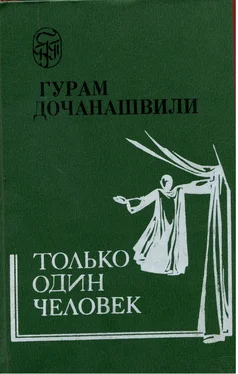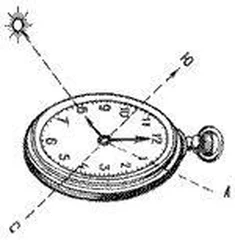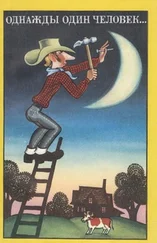Зловещий кровопийца Бебут-бег тут же, оказывается, поспешил выполнить данное ему поручение. Он бросился навстречу смиренно выходившему из молельни Сефи-Мирзе и, объяснив ему приказ шаха, — Сефи-Мирза не успел даже перед смертью послать благословение отцу, — несколько раз вонзил ему в грудь длинный и тонкий обоюдоострый нож.
И за этим последовали события — наиудивительнейшие... Началось все, оказывается, с того, что главная жена шаха, мать Сефи-Мирзы, влепила шаху пощечину, а потом еще раз хлестнула его по лицу тыльной стороной ладони. Осмелилась бы на такое в Персии жена последнего гуртовщика? Ах нет, ни за что! Но великий завоеватель Шах-Аббас так и остался сидеть в неподвижности, глубоко уйдя в свои думы... Злодеяние! Э-э-эх! Жена снова подскочила к нему, надавала ему яростных оплеух и зуботычин, расцарапала ему в кровь все лицо, но он продолжал сидеть, низко понурив голову и думал свою горькую думу. Только, может, дня через три пришло к нему некоторое облегчение — после того, как он, созвав высший совет-дарбази, повелел всем своим первым сановникам, без изъятия, отравиться. Единственно, кому он сохранил жизнь, это Корчиха-хану и тому самому Бебут-бегу. После этого он, оказывается, дни и ночи напролет лил слезы, чуть не выплакав все глаза; облачился в рубище, поскидал с пальцев драгоценные перстни — эту никчемную мишуру — и велел выколоть глаза у двух своих сыновей, чтоб единственным его наследником остался младенец Сефи-Мирзы.
Бебут-бегу он даже пожаловал ханство, но отослал его куда-то подальше, с глаз долой, а сам пять лет скитался, оказывается, страстотерпцем по лесам, все по-прежнему проливая слезы. Но еще допреж того в одной маленькой соседней стране, кровь которой он ненасытно пил, особенно люто на нее ополчившись, именно как раз в этой маленькой стране убили его Корчиха-хана. Затем, по истечение пяти лет, шах, в сопровождении свиты, лично посетил с богатыми дарами Бебут-хана, единственный сын которого успел за это время подрасти; побеседовал с ним на кое-какие безобидные темы, а потом вдруг, как бы невзначай, говорит: «Имеется у меня к тебе одна просьба»; Бебут-хан ответил ему, по персидскому обычаю, напыщенной, цветистой фразой: онн-де весь исполнен готовности, только прикажжи ему великий властитель; и тогда Шах-Аббас, медленно, раздельно произнес: «Иди и тотчас же ворочайся с головой твоего сына». И вот через недолгое время алчный кровопийца, вечно жаждавший чужой крови, с плачем внес на большом подносе голову своего единственного сына. И тут великий шах будто бы спросил его: «Что, Бебут-хан, тяжко, оказывается, убить свое дитя?» — «Очень тяжко!» — и оба они, оказывается, разрыдались. Видимо, как раз после этого произошла одна весьма странная вещь, но об этом несколько ниже; а Вано-то хорошо знал, почему его так сильно взволновало, став для него делом первостепенной важности, это происшедшее когда-то в чужой стране событие: самого Шах-Аббаса воспитывала бабушка-грузинка, тайная христианка, да и в жилах Сефи-Мирзы тоже ведь струилась кровь той ближайшей страны — мать его была грузинкой; великого воина Корчиха-хана убил, оказывается, Великий Моурави — Георгий Саакадзе, грузин, а той маленькой страной, кровь которой текла и в жилах Шах-Аббаса, была Грузия, но при всем том он, оказывается, эту самую Грузию ненавидел пуще любого совсем далекого ей чужеземца; ну а Вано, нынешний, теперешний, разве он не был грузином и не любил свою родину? С того он и прицепился так к этой истории, ээх, очень тяжелой, ибо ведь если просто, ни с того, ни с сего возьмешь и начнешь орать во всю глотку: «Зло — это плохо, а добро, добро — ооочень хорошоо!», никто же не придаст веры твоим словам, вернее, тебя и слушать никто не станет, а еще вернее — никого ни в малейшей степени не тронет этот твой вопль, ибо всякая подобная история требует соответствующего воплощения, вернее, ее нужно обогатить и расцветить словами, а еще вернее — ей надо придать такую убедительность, чтоб она хватала за горло, и уж совсем, совсем верно то, что ты, преодолевая адову муку и поправ, раздавив пятою злобу, должен способствовать прорастанию в человеке добра — этого прекраснейшего цветка души, ее наивысшего постижения.
Но и об этом ниже, ниже; сколько же я чего сулю, сколько чего обещаю...
— Слушай, Уваншпта,— обратилась к нему повстречавшая его на берегу Нила жена; вы не поверите, но ее там тоже Джигахатун звали, — знай, если ты не оставишь свои шашни с Майятити, я ворвусь с распущенными волосами во дворец самого фараона — да пребудет он здрав, невредим и цветущ, — кинусь с воплями и причитаниями ему в ноги и все про тебя расскажу, так ты и знай.
Читать дальше