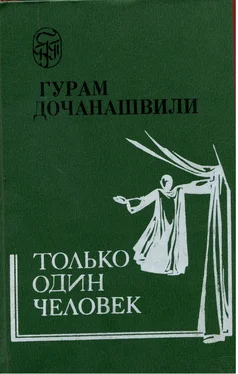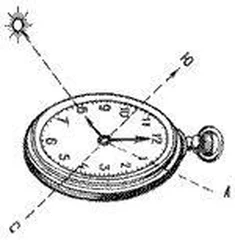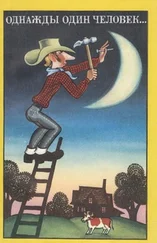Сколь малым довольствуются порою люди...
И впрямь, сколь же все-таки малым довольствуются порою люди, — когда Бесаме купил себе каштанов, всего три горсти, ему как-то на сердце полегчало, а как полегчало, так и захотелось попить водицы, и он отведал ее из смутно проступавшего в ночи фонтана, всего два глоточка; плохое настроение вроде бы отступило, и он присел у воды... в брызгах, которых не было видно, и в шуме, правда, чуть смелевшем по ночам, но все-таки очень скромном; а в необозримой дали, где-то там, за облаками, поблескивала какая-то звездочка. Бесаме приподнял голову, поглядел на густо чернеющее небо, и вдруг на него напало что-то очень враждебное и нестерпимо настырное, что рано или поздно неизбежно нападает, находит на всякого человека: «Зачем я есть...»
Весь скрючившись, сжавшись в комок, сидел наш Бесаме. Каким сиротой ходил он по этой всеприемлющей и всепрощающей матушке-земле, сколько мучился, сколько холодал и голодал, как исстрадался, и ведь надо же — теперь, когда он только-только с таким трудом приманил к себе наконец волшебника... Совершенно! подавленный Р. и Д. и Ж. Рексачом, с горечью думал он о том, сколько же, ох, сколько чего надобно человеку, и самое главное, вероятно, — это солнце или воздух... Ух, мы же позабыли из этого самого главного землю и воду! Воодааа и земля-кормилица с ее материнским лоном, без попреков, с тихой лаской дарующая нам такое изобилие многообразных своих плодов, все отдающая, присновеликая и всеблагая в своих безмерных щедротах. И не пошло все это впрок ему, сироте, сокрушенно думал Бесаме, не смея шелохнуться от ужаса. А многопалая ночь маленького городка крепко-накрепко вцепилась ему в ворот своими черными лапищами, пристально уставилась на него, полуудавленного, черными провалами глаз и раззявила над ним свою черным-черную пасть: «Зачем ты, для чего?» Ээх, куда же подевались все блага земные! И Бесаме, сам превратившись в ночь, зажал руками уши, смежил веки и затих, замер, когда вдруг почувствовал чью-то новую руку на продрогшем затылке, встрепенулся и увидел ее — Рамону Спасения и Отрады.
— Тебя подпоили? — спросила она, приглядываясь к нему тревожно.
А как же нет — ему дали, дали хлебнуть горькой отравы, здесь, в Алькарасе, где в самый первый раз за всю свою жизнь улыбнулся сирота.
А когда Рамона спросила «подпоили, даа?», на последнем гласном «а» ее ротик остался чуть приоткрытым, и зачарованно смотрел на нее в той темноте Бесаме — уж с каких пор любил он ее.
* * *
А Пташечка:
— Ничего, грт, кисоньки, плавать вы, похоже, умеете, особенно ты, мой Каро. А это слово, это сладкое Каро, здесь, в светлых стенах, будет отныне не фамилией твоей, а твоим наименованием. А тебя как кличут?
— Так ведь, с вашего позволенйя, я Тахё.
— Славно, славно. А тебя, дорогой?
— Меня зовут Карло.
— «Л» совсем ни к чему. Хотя в команде нежелательно иметь двух Каро. Я нарекаю тебя наименованием Джанкарло. А тебя, цаваттанэм? [48] Дословно — твое горе мне; ласк. обращение (арм.).
— Хуан.
— Ну что за имя Хуан, душенька? Ты будешь у нас Хюаном. А тебя, май дарлинг?
Птенцы сидели на краю удлиненного четырехугольного бассейна, опустив голени в подогретую мутную воду Алькараски; с головы до ног мокрые, они дрожали мелкой дрожью — им это было так назначено для закалки, а за их спинами ходил себе похаживал Рихоберто Даниэль Жустино Рексач; огромные часы с кукушкой свисали у него до самого пупа, а длинный свисток был по-домашнему заткнут за ухо, и когда он сверху вниз спрашивал о чем-нибудь кого-то из своих подопечных, то при этом игриво пинал его в спину ногой.
— Я вас обучу самой величайшей и блаженнейшей из всего множества существующих на свете игр — оох! — ватерполо. Тебе хочется, Тахё?
— Да-с.
— А тебе, мон шер Хюан?
— Да-с...
— Ватерполо, мой Джанкарло, это сама жизнь, а почему это так, я вам объясню в следующую субботу. На кого ты похож, парень, тебя что, голодом морили дома? — пнул он ногой плюгавого музыканта. — Ты, кажись, рукоблудишь на скрипке, да?
— Да-с, — и снова уселся на свое место хрящеватый паренек.
— Ну ладно, на что-нибудь да сгодишься, ибо великое ватерполо — это сама жизнь, а в жизни — вам холодно, чего вы так посинели, полевые фиалки? — а в жизни чего только не бывает. Но все же главное то-о, то, что... А ну, что, дорогой Тахё?
— А кто его...
— В этой жизни, душенька, знаете, что самое главное?
Наступила тишина. И тут Пташечка, высоко вскинув голову, изрек:
Читать дальше