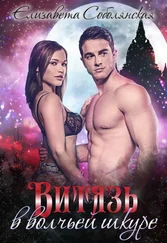В подворотне, где горела одна-единственная лампочка, тусклый свет которой едва просачивался в темноту, он увидел на дверях дощечку: «Пятница — выходной день».
Бормоча проклятия (мы не рискуем их здесь воспроизвести), он повернулся и вышел из ворот. На тротуаре стоял дождь и мочился на стены, как прохожий. Он, видно, знал, что в «Грозди» сегодня выходной, а следовательно, матрос выйдет обратно, и дожидался, хотел проводить его домой.
— Проваливай, мокрый чертяка! — сказал матрос.
И дождь притаился в нише какой-то стены, делая вид, что больше не обращает внимания на матроса.
— И то хлеб! — пробурчал тот.
Он, впрочем, имел лишь приблизительное представление о том, что хотел этим сказать. Вернее, он ровно ничего не хотел сказать, ибо в подобных обстоятельствах лучше всего было держать язык за зубами и не привлекать к себе внимания. Зашагав дальше, он заметил, что дождь вылез из своей ниши и на тысяче мягких ступней стал красться за ним. Настал миг великого просветления: матросу (слава тебе господи!) вспомнился завзятый выпивоха, сам варивший сливовицу той крепости, которая была ему по вкусу.
Этот человек (некогда деревенский кузнец) жил теперь припеваючи на хуторе, в семи километрах к северо-западу от Тиши и, следовательно, вместе со своими спиртными напитками находился довольно далеко в стороне. Прежде (то есть во время войны и в первые послевоенные годы) кузня, где он подковывал уцелевших лошадей, стояла на южном краю деревни. Матрос, направляясь в Тиши, всякий раз проходил мимо этой хибары (теперь на ее месте стоит бензоколонка), с симпатией и почтением посматривая на растрепанного, иной раз полуголого старика, вдруг появлявшегося в дверях. Однажды, когда матроса в пути застала гроза, он укрылся под навесом кузни и — как часто бывает в непогоду — неожиданно разговорился с кузнецом.
Молния! Удар грома! Матрос, ослепленный ярким светом — в животе у него на секунду что-то перевернулось от оглушительного удара, — вдруг заметил рядом с собой кузнеца, похожего на огромную серую обезьяну, которую шутки ради обрядили в какое-то тряпье.
Кузнец (он орал во всю мочь, потому что дождь барабанил по навесу так, словно опрокинулась телега со щебенкой):
— Вот так штука! Ударило где-то совсем рядом.
Матрос не сводил глаз с белесой стукотни, что занавесом свешивалась с края крыши. Потом раскурил трубку, погашенную было с испугу.
— Не велика беда, — сказал он. — Здешние жители все застрахованные.
— В провод ударило, — проорал кузнец.
— А его и вовсе не жалко! — отвечал матрос.
— Верно, — согласился кузнец. — Чушь собачья все, что они там говорят по телефону.
Они взглянули друг на друга. Взгляды их ощупью брели за белесым занавесом. Матрос ухмыльнулся, потом ухмыльнулся кузец: у них было одинаковое мировоззрение.
Кузнец продолжал разговор:
— Вы ведь матрос, верно? — сказал он. — Знаю, знаю, сын старика Недруга. Я хорошо его помню, вашего покойного папашу. (Меж тем дальний гром загрохотал, словно покатилась бочка, из которой выцедили все вино.) Плохие у него выдались последние годы. Для старого человека он слишком много был один. — И добавил: — Вам, черт подери, следовало бы раньше вернуться, тогда бы он, пожалуй, еще и сейчас был жив. Ну, да об этом мы еще поговорим. Я когда-нибудь поднимусь в хижину гончара.
Но обещание обещанием и осталось. Следующей осенью он продал свою кузню и перебрался на хутор, где у него давно уже был дом, в стороне от дороги, и добрая сотня сливовых деревьев. Там он начал варить сливовицу в неимоверных количествах, это было его страстью и к тому же приносило хороший доход. Ни жены, ни детей у него не было, только водка, и, надо сказать, отличная.
В мелочной лавке Франца Цоттера еще горел огонь. Окно, как покрасневший глаз, таращилось сквозь призрачную оболочку дождя. Матрос решительно вошел в лавку, он знал: тут всегда имеются горячительные напитки.
— Сливовицу, пожалуйста.
— Очень сожалею. Вся вышла.
— Тогда коньяк?
— Очень сожалею. Коньяка тоже нет.
— Виски?
— Этого у нас и не водится.
— Вот дьявольщина! Что ж у вас есть?
На полке красовались бутылки с жидкостью странной окраски. Название было какое-то дурацкое и, судя по виду, вкус как у зубного эликсира. С этикетки улыбался охотник.
С горя матрос купил одну из них и, когда снова очутился в своих четырех стенах и выставил за дверь дождь, по пятам его преследовавший, выпил за вечер ее всю до дна. Тщетно! Пьяный, он повалился на кровать, она начала вращаться вместе с ним, и мука возобновилась с прежней силой: хорошо знакомые и уже нестерпимые слова вплетались в муть хмельных сновидений, так же как вплетается потустороннее со злобным своим бормотом в муть горячечного бреда.
Читать дальше


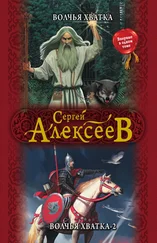


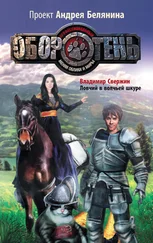



![Елизавета Соболянская - Витязь в волчей шкуре [СИ]](/books/385921/elizaveta-sobolyanskaya-vityaz-v-volchej-shkure-si-thumb.webp)
![Валерия Лютая - Русалка в волчьей шкуре [СИ]](/books/419171/valeriya-lyutaya-rusalka-v-volchej-shkure-si-thumb.webp)