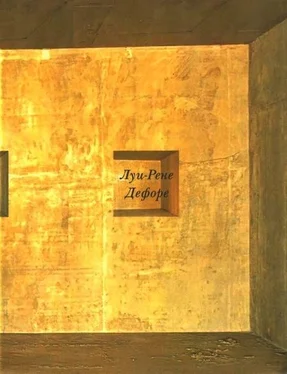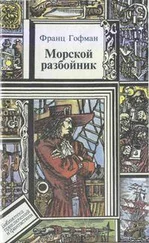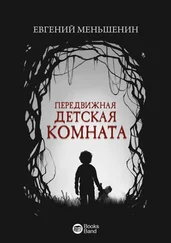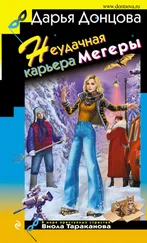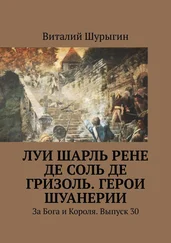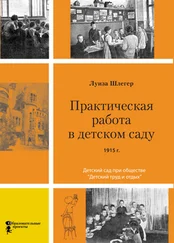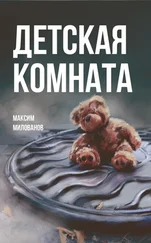Разумеется, в тексте символический план скрыт, заслонен — в первую очередь фигурой пожилого «литератора», боящегося смерти и желающего увековечить свой опыт в каком-нибудь тексте, — а это и есть текст, лежащий перед нами и представляющий собой описание собственных подготовительных материалов, — смиряется с необходимостью заменять выдумками то, чего не может отыскать его ослабевшая память. Это возвращает нас к проблеме «вымысла, сведенного к своей сути», а в более общем плане, о котором постоянно напоминает Бонфуа, — к сегодняшнему писателю, судящему литературу прошлого и безжалостно ставящему под сомнение свободное от рефлексии лирическое начало, так долго ее одушевлявшее. «Было ли что-либо в радости того майского утра, кроме простейшей и тщетной иллюзии, какой становится субъективность, полагающая себя мерилом бытия?» [22] ENT. P. 139.
Финал рассказа, судя по всему, это опровергает, подтверждая оценки Бланшо: «Обезумевшая память» — всего лишь очередная, пусть и не столь последовательная, попытка «не сопротивляться головокружению», которое вызывают у нас слова. Но Бонфуа не хочет ограничиться подобной констатацией, возвращаясь на этом этапе своего анализа к рассмотрению «Болтуна».
Он задает простой вопрос: почему повесть Дефоре, будто бы методично реализующая переход к новой концепции письма, так противоречива и, что еще важнее, почему она оставляет совершенно однозначное и далеко не «игровое» впечатление рассказа о человеческом горе? «Топчущаяся на месте» речь, подрывающая и стабильность повествования, и укорененность персонажей в реальности, здесь налицо, но не стоит преувеличивать значение формальных элементов: за ними мы все равно различаем, пусть и на очень большой глубине, не «саркастический смех», о котором говорил Бланшо, а наделенный несомненными личностными чертами голос, страстно желающий поведать о тайне этой личности.
Бонфуа довольно парадоксальным образом сопоставляет пение ребенка в часовне с речью болтуна в кабаре. И в том, и в другом случае изображен резкий переход от молчания к говорению, однако в обсуждаемом символическом плане гимн юного певца указывает на литературу, еще верящую в свою способность воссоздавать реальность, тогда как речь болтуна — настоящий «вымысел в его сути» [23] Ср. в тексте повести: «…я действительно напрочь забыл содержание моей тогдашней речи, и по самой простой причине: я не обращал на слова ни малейшего внимания… Всего важнее для меня было молоть языком, а что именно молоть — до этого мне дела не было».
, и враждебный смех, которым шокированная женщина встречает излияния героя, может указывать на то, как реальный мир вырывается из образа, навязываемого ему вымыслом. Казалось бы, у нас есть лишний повод убедиться в правоте Бланшо, писавшего о «бесконечном нигилизме» этой повести, а следующие далее картины мертвенного ночного города, где улицы, здания, деревья словно превратились в призраки самих себя, только подтверждают его вывод. Бонфуа, однако, не согласен с такой интерпретацией: он считает, что эти ирреальные картины не сводятся к чистому приключению сознания, но имеют для героя несомненное экзистенциальное значение, — отчужденный антураж скорее говорит о внутреннем состоянии опозоренного изгоя. Болтун существует , причем в тот самый момент, когда делает все, чтобы не существовать. Разве в противном случае вся повесть и особенно ее вторая часть были бы проникнуты таким отчетливым чувством личной вины? Такой же личной, каким становится — обращенный к болтуну и ни к кому другому — призыв поющих за стеной голосов, которые он слышит в минуту своего воскрешения. Этот момент принципиально отличается от экстаза ребенка из «Памяти»: впервые в тексте повести, где все «то ли происходит, то ли нет», обрела права некая реальность, проще говоря — реальность как таковая. Было или не было пение юных семинаристов выдумкой болтуна, важно то, что это пение названо чем-то «необыкновенным», а стало быть, имеет «совершенно иную природу, нежели все образы и чувства, соединенные до этого момента со словесной материей книги» [24] ENT. P. 151.
. Именно в этой точке болтун — или некто другой, словно выглянувший из его слов, — демонстрирует принципиально новое отношение к языку. Прежде этот персонаж не имел определенных черт, если не считать склонности к болтовне, и язык его, соответственно, был стертым, состоял в основном из клишированных оборотов и сравнений, — но лишь только зазвучало пение детей, как слова человека, слышащего это пение и о нем говорящего, начинают вибрировать, дышать теплом. Иллюзорна или подлинна эта радость, все равно; главное, что она указывает на возможность восприятия внешнего, внесловесного мира. Так в «письмо нашего времени», в «пустые слова», вписывается совсем другая речь, пусть и не пережитая во всей полноте, а звучащая как бы обертоном, — уже тот факт, что она оказалась возможной, объясняет чувство вины, терзающее болтуна. А что, если его безостановочная болтовня есть лишь следствие того, что он приписывает словам автономию и самоценность, — возможно, из гордыни , на что намекает и текст («я дни напролет вскармливал в себе гордыню и ненависть»)? Иначе говоря, не тогда ли наша речь терпит крах, а нас постигает обнажаемый этим крахом кризис идентичности, когда мы — и как раз из гордыни, отдавшись грезам о личностном суверенитете, — не даем себя преобразить идентичности более высокой, соединяющей нас с миром по ту сторону слов? И хотя болтун, объявивший после «необыкновенного» события, что впредь никогда не осмелится открыть рот, все же продолжает молоть языком, вопрос о возможности другого использования слов, — о приращении, а не о разрушении смысла — все равно поставлен. Так что даже эту повесть Бонфуа не считает триумфом «новой» литературы, — напротив, здесь Дефоре еще более явно, чем в «Памяти», свидетельствует, что литература эта бессильна «отделаться от воспоминания о мире как присутствии и о словах, способных это присутствие выразить» [25] ENT. P. 155.
.
Читать дальше