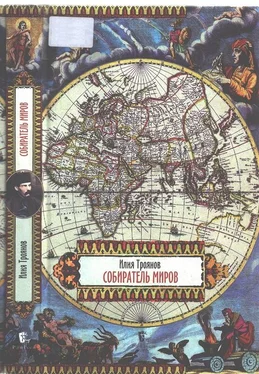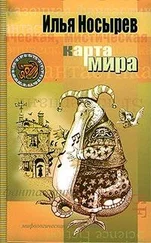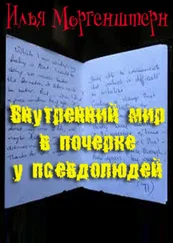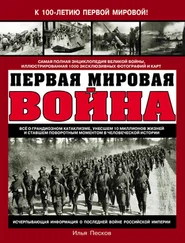— Баба Сиди, прости меня, но день уже заканчивается, а я обещал моим внукам рассказать им сегодня вечером историю, может, я расскажу им одну из твоих историй, мне пора уходить, но я не хочу вас покидать, не услышав, как ты добрался до озера, мне так приятно вспоминать об этом…
— Да, до первого великого озера.
— Хорошо, баба Юзуф, я перепрыгну через болото Малагарази и остановлюсь на последнем подъеме, когда умер осел бваны Спика — он лег на землю, словно с последним хрипом полностью израсходовал все свои силы. Бвана Спик был в смятении, он лежал на земле, на боку, вцепившись руками в землю, и ничего не говорил, я думаю, ему не хотелось привлекать внимание к себе, к своему неблагородному положению, но я все равно его поднял, мне пришлось поддерживать его, мы вместе влезали на отвесный холм, на последний, как я знаю сейчас, но тогда это казалось очередным испытанием в ряду многих. До боли ухватившись за мой локоть, он умолял меня описывать ему все, что я мог увидеть, все колючие кусты, взбитые облака, камни как тыквы, не так-то много чего можно было описать, но он был жаден и нетерпелив, едва я переводил дух, как он требовал говорить дальше, и я должен был поклясться, что не утаиваю от него ни малейшего изменения пейзажа. Мы взошли на вершину, отдышались, и я увидел что-то необычное, что возбудило меня, металлическая поверхность мерцала под солнцем. Бвана Спик тоже что-то угадал, он видел немного, но свет и темнота как-то пробивались сквозь его вспухшие глаза, и он возбужденно спросил меня: эти полосы света, Сиди, ты тоже их видишь? Что это? Но я не торопился с ответом, я хотел распробовать радость. Я думаю, бвана, сказал я с размеренностью, я думаю, это вода. И когда я это произнес, то заметил, что вокруг царит ликование, я увидел, как Саид бин Салим исступленно говорит что-то бване Бёртону, сидевшему на плечах самого сильного носильщика и вытягивавшему голову в даль; а Джемадар Маллик ухмылялся как игрок, только что получивший двойной выигрыш, белуджи поздравляли друг друга и остальных, склоняясь в глубоких церемонных поклонах. А бвана Спик, он почувствовал эйфорию и заразился ей, но все же немного жаловался, жаловался на туман перед глазами. Вскоре мы гораздо лучше могли разглядеть озеро, оно лежало под нами, как гигантская синяя рыба, гревшаяся на солнце. Мы были околдованы, мы забыли все муки, все опасности, мы забыли про шаткую надежду на возвращение, о да, мы забыли все, что было плохо, и в первый и в последний раз, братья мои, все мы делили друг с другом одно и то же счастье.
= = = = =
Сегодня — 13 февраля, исторический день для открытия мира, в первый раз цивилизованным глазам предстало озеро, не могущее быть прекрасней, хотя внешность, как верно говорится, обманчива. Озеро показалось им блестящим мазком, сияющей издевкой, убогой оплатой их тягот, убийственным разочарованием, но уже через несколько шагов, когда водная поверхность перестала отражать солнце и открылся широкий обзор, они получили первое впечатление об истинной величине озера, сверкание которого раскинулось далеко. О, эта благословенная вода — в нем вспыхивает эйфория, как долго оттягиваемый оргазм, — окруженная горами, словно лежит в лоне богов, светло-желтый песок, изумрудно-зеленая вода. Солнце ласкает ему лицо, легкий бриз, который он вдруг ощущает, закручивает хлопья на мягких волнах, пара кану скользят по воде, и их движения рождают то таинственное бормотание, которое становится тем громче, чем ниже они спускаются по отвесной тропе. Носилки неудобны, и пару раз носильщики подскальзываются, так что ему приходится хвататься за боковые брусы, но в это мгновение его ничто не может взволновать. Под ними лежит река Малагараси, рыжевато изливающаяся в озеро, и деревня, которая блаженно ластится к мягкому очертанию бухты, если бы сюда перенеслись парки и фруктовые сады, мечети и дворцы, место выглядело бы прекрасней, чем самый волшебный итальянский курорт. Меланхолия? Монотонность? Смыты прочь, здесь и сейчас вознаграждена вся безотрадность, в этот миг он ощущает умиротворение, настолько полное, что готов вынести вдвое больше боли, забот и нужды за эту цену, и не жалел бы.
= = = = =
Сиди Мубарак Бомбей
Братья мои, это правда, я с гордостью рассказывал о моих путешествиях, и моя жена права, иногда гордость заводит меня далеко, поэтому я сознаюсь вам, сейчас, когда мы достигли самого восторженного момента нашего пути, почему я еще и стыжусь каждого моего путешествия, я должен признаться вам, почему я сожалею о каждом моем путешествии. Потому что я своими глазами видел, что не должен видеть ни один человек, потому что я видел начало рабства, и меня вынуждали каждый раз заново переживать мою смерть, и всякий раз я думал, что ужасней не будет, ужасней, чем здесь, в Уджиджи, в цели нашего пути, так думал я тогда. Но вы сами знаете, если человек дает своей жизни достаточно времени, то она преподносит ему что-то еще более ужасное, так я на втором путешествии попал в место более жестокое, чем Уджиджи. Всякий раз встречая караван рабов, в Зунгомеро, в Кифукуру, в Казехе, в Уджиджи или в Гондокоро, я снова умирал моей первой смертью. И верьте мне, повторяющаяся смерть — это не более легкая смерть. Вазунгу, которых я сопровождал, называли себя первооткрыватели, но настоящими первооткрывателями тех земель были работорговцы. Везде, куда бы мы ни приходили, везде они уже побывали. Деревни были если не сожжены, то разорены, если работорговцы не гнали своих жертв по земле, то нагружали ими лодки, набивали битком так, что половиной приходилось жертвовать, это было хонго, которое они платили смерти. Работорговцы на первом озере были самыми подлыми из подлых, это были пожиратели людей, и к стыду своему я повстречал их опять, на обеих больших реках, на реке, которую они называли Нил, и на реке, которую они называли Конго. Из Уджиджи рабов гнали через всю страну, до Багамойо, а на Ниле их переправляли вниз по реке на север, в место под названием Хартум, которое я должен был увидеть собственными глазами, на втором путешествии, а оттуда — дальше, в город под названием Каир, который мне тоже пришлось увидеть, а оттуда — во все части света. Эти пожиратели людей, эти торговцы смертью, они приходили, когда дул попутный ветер, гнавший множество их лодок с севера на юг, проклятый ветер, который был на их стороне и соединял их с охотниками, с бандами, поселившимися в лагерях по берегам Нила, и в месяцы, пока ветер не был на их стороне, эти банды охотились, они собирали добычу в лагерях, окруженных кольями, на берегу большой реки, там они держали жертв, чтобы отправить их по реке на север. Если они не могли найти людей, если жители прятались, если вожди деревень не соглашались продать пленных врагов или опальных соплеменников, то угоняли весь скот и шантажировали деревенских старейшин, предлагая им обменять рабов на скот или умереть от голода. Старейшины были вынуждены призывать их к набегам на соседние деревни. Так они разбойничали, а когда проклятый ветер приходил к ним на помощь, то огороженные лагеря в месте под названием Гондокоро наполнялись людьми, уже испытавшими свою первую смерть. Если есть на земле место, внушающее мне страх, страх, который мучает меня днем и преследует ночью, то это место под названием Гондокоро, не знающее ни жалости, ни милосердия. Единственными женщинами там были больные женщины, которые продавали свои тела, изношенные губки, которые впитывали в себя мужскую похоть. В Гондокоро не было иных детей, кроме детей в неволе. Гондокоро был местом смерти для всех. Для жителей страны и для пришельцев, для мусульман и для христиан. Даже лимонные деревья в Гондокоро умерли. Они стояли двумя рядами, посаженные людьми с крестом на груди из страны немцев — те построили дом для своего Бога, посадили деревья на благо всем, устроили кладбище…
Читать дальше