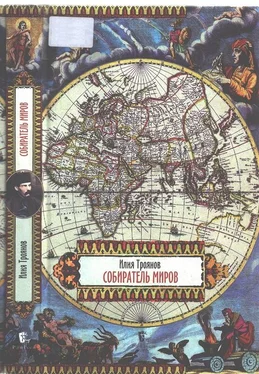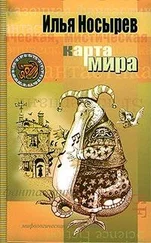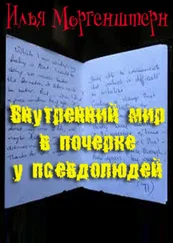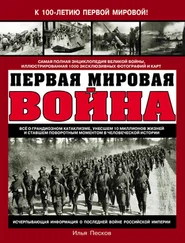Чем сильнее растет его уверенность, чем больше он разгадывает чужую землю, тем проще для него обезоружить ее угрозы. Он привыкает к безжалостно настойчивым барабанам вдалеке, в которых джемадар готов подозревать все мыслимые ужасы, и потому отдает своим тринадцати солдатам приказы к нелепым ложным маневрам. Он привыкает к медлительности стариков, деревенских старост, чьи имена звучат как оговорки. В Киранга-Ранга впервые пошел дождь, в Тумба-Ихере они в последний раз видят дерево манго. В Сегезера впервые ссорятся белуджи, их приходится растаскивать, прежде чем в дело вступают кинжалы; в лесах около Деге-ля-Мхора они замечают мартышек, которые столь проворно катапультируются сквозь макушки деревьев, что выстрелы Спика гулко раздаются в ветвях, и с каждым эхом он теряет уважение каравана, потому что направил ружье против мартышек и потому что промахнулся. В Мадеге-Мадого сдох первый осел, остальные животные околели в последующие дни, исчез первый носильщик, настроение экспедиции падает как барометр. Неожиданно рано приходится нагружать верховых животных, и скоро даже руководители экспедиции вынуждены идти пешком.
Бёртон шагает вряд ли медленнее осла, но едва он покидает спину животного, меняется его восприятие. Внимание поглощено собственными шагами, нанизыванием сотен и тысяч шагов. После свежести раннего утра, когда его взор все вокруг замечает и его ум все впитывает, он постепенно сосредотачивается, разгоряченный и недовольный, на собственных шагах, игнорируя все, кроме камешков, шипов, листиков, скрипящих и шелестящих под его сапогами, — крошечные дорожные разметки, придающие безотрадности изменчивое лицо, маргинальные перемены, на которые он обращает внимание, чтобы хоть за чем-то следить, на гниющие плоды, упавшие с деревьев, не совсем круглые и не совсем желтые, раздавленные, испорченные плоды с коричневыми пятнами, испускающие назойливый запах ферментации.
В первые недели на холостом ходу между проверками и наблюдениями он вычищает мусор из головы, выметая все те воспоминания, которые оставили в нем свои жала, крючковатые, вросшие в него жала. Он не имеет представления, творится ли что-то похожее со Спиком, идущим в авангарде, в то время как он сам сопровождает отстающих — подобные темы подразумевают фамильярность, которой между ними нет. Ранения прошлых лет становятся свежи: им вновь овладевает гнев, как тогда, когда он узнал о предательстве начальства в Синдхе, — и заново полыхающая ярость гонит его через следующую гряду холмов. Он скорбит о Кундалини, так же ожесточенно, как тогда, он скорбит до того горизонта, где растет баобаб — толстокожий мемориал. Он вновь страшится, что его разоблачат как богохульника, как тогда, между Мединой и Меккой. Его шаги продираются сквозь гнев, сквозь горе, сквозь страх, и так проходят часы, и дни, и недели. Все утраченное в его жизни вновь всплывает на поверхность, каждое унижение, разочарование, каждая рана. Он чувствует себя на лодке без руля среди бушующих волн, ему надо перегнуться через борт и собрать весь выброшенный в море балласт, каждую вещь по отдельности, пусть она опутана водорослями или разъедена солью, он терпеливо держит ее в руках, разглядывая со всех сторон, чтобы удостоверится, что ту или другую сторону уже не разглядеть, и он откладывает ее лишь тогда, когда перестает ее чувствовать, потому что она растворилась в невозмутимости, но не в забвении.
= = = = =
Сиди Мубарак Бомбей
Вначале никто из нас не знал, что нас ожидает, никто не мог предвидеть, что нам суждено пережить, а если бы мы знали, то никто из нас не сделал бы ни шага по этому пути шрамов и лишений. Мы были полны незапятнанных ожиданий, вначале, когда наши шрамы еще были ранами, когда враг еще был братом, и наша надежда была богаче опыта. Никто из нас не был готов к тому, что на нас обрушилось, даже носильщики, из людей ньямвези, которые уже однажды, хотя бы однажды, шагали по этой земле. Они несли груз караванов, стремящихся к наживе, но теми караванами не погоняло тщеславие достигнуть мест, где еще не был ни один человек. Носильщики терпели приказы людей жестоких, жадных и коварных, но не безумных. Ни один из нас не гнул спину под тяжестью каравана, ведомого вазунгу, а вазунгу, братья мои, это странные люди, я знаю их, я отличаю их друг от друга, но я никогда не смогу понять их. Они верят, что высшее призвание человека — попасть туда, куда не могли добраться его предки. Как понять их нам, ведь мы боимся пойти туда, где никто еще не был? Как нам разделить их счастье, когда им удается выполнить задание, которое они сами на себя взвалили? Видели бы вы выражение их лиц, они были счастливы, как отец, держащий в руках своего первенца, счастливы, как недавно влюбленный, когда к нему подходит его красавица…
Читать дальше