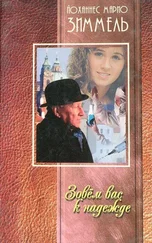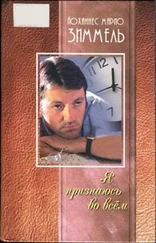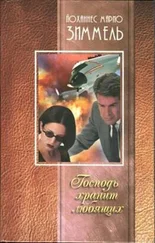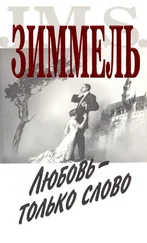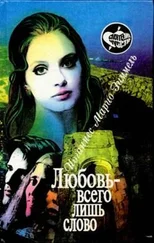Женский голос ответил ему:
— Добрый вечер, месье Сорель. — Вы получили мою записку?
— Вашу записку?.. — Он не мог вспомнить. — Ах да, насчет костюма и химчистки. Вы мадам Донадье?
— Да, месье. Раньше, к сожалению, не получается.
— Ничего страшного… Я… «Черт побери, — подумал он, — не могут же постель и ванная комната оставаться в таком состоянии». Я опять нуждаюсь в вашей помощи, мадам… у меня кровь пошла носом, очень сильное кровотечение…
— Мы немедленно придем и приведем все в порядок.
— Ужас какой-то… вчера костюм, а сегодня вот это…
— Пустяки, месье! А мы-то на что? Подождите немного…
Она пришла очень скоро — пожилая женщина с аккуратно уложенной высокой прической и легким макияжем. Ее строгий английский костюм мог быть и от известного портного, а не из магазина готового платья. Две девушки в черных платьях с белыми передниками привезли на тележке свежее белье.
— Подождите, пожалуйста, пока в салоне, месье.
Коридорная обменялась несколькими словами с девушками. Одна из них сразу исчезла в ванной комнате, а вторая помогала мадам Донадье менять постельное белье.
— Позвольте мне, по крайней мере… — сказал он, вкладывая ей в руку стофранковую купюру.
— Ни в коем случае! — Она немедленно вернула ее Сорелю. — Возьмите, месье. Это противоречит нашим правилам.
— Пожалуйста, — сказал он. — Передайте деньги девушкам, если вам ничего брать не полагается…
— Для девушек, так и быть, возьму. Большое вам спасибо, месье, вы очень добры!
Совсем молоденькая темнокожая девушка, стоявшая рядом с ней, изобразила нечто вроде реверанса.
— Спасибо вам, месье, от меня и от Жанны.
Женщины быстро заправили постель свежим бельем.
— Мы уже почти готовы, месье Сорель! — громко проговорила из ванной комнаты мадам Донадье, и через несколько секунд она уже присоединилась к темнокожей девушке.
— Спокойной ночи, месье Сорель, — сказала на прощание коридорная.
Они обменялись несколькими словами с девушкой, приводившей в порядок ванную комнату, и вскоре дверь номера закрылась за ними.
Воздух липкий, духота стоит страшная, он весь вспотел, мотаясь взад и вперед по изгаженному вокзальному перрону. Четыре раза пробили часы на башне близлежащей церкви. В четыре часа утра он на перроне вокзала в Местре, неподалеку от Венеции. К поезду он опоздал, теперь ждет следующего; все рестораны давно закрыты, слабые лампы тускло освещают железнодорожные пути, стены пакгауза и перроны, со стороны нефтеперерабатывающего завода ветер доносит сладковатый, приторный запах гнили; он ждет здесь уже много часов, дней, месяцев и лет, хотя ему давно пора быть в Милане. А поезд все не подходит. Он вынужден ждать этот поезд, который доставит его в Милан, ему надо было быть в Милане уже много часов, дней, недель и лет назад. Это вопрос жизни и смерти, а поезд все не идет. Поезда нет и нет, вот он и мотается взад и вперед по вокзальному перрону, в конце которого на старом чемодане сидит одинокий молодой человек. Он вглядывается в его лицо и ужасается — потому что молодой человек — его родной сын, он вглядывается в его красивое лицо, но сейчас его красивым не назвал бы никто, это лицо человека совершенно опустошенного, человека порочного, вдобавок оно обезображено кровоподтеками и нарывами, а его глаза это глаза мертвеца.
От него исходит запах гнили, в тысячу раз более омерзительный, чем тот приторный запах, который ветер приносит со стороны нефтеперегонного завода. Он ощущает мерзкий запах гнили от дыхания Кима и слышит его хриплый голос: «Сейчас ты умрешь, отец…»
Он резко повернулся в постели, закашлялся, весь в поту. На озере мелькали огни прогулочных судов, синие, красные, зеленые, желтые — их было великое множество, этих разноцветных лампочек и фонарей. Он нажал на кнопку ночника на тумбочке и заметил, что рука у него по-прежнему дрожит, и даже еще больше, чем… чем когда? Он задумался. Когда здесь была коридорная? Когда именно это было? Вчера? В дни его молодости? Когда умерла его мать? Когда?
Он снова лег на спину, его бил озноб и в то же время он был весь в поту… «Сколько может быть времени?» — Он поднял дрожащую руку и взглянул на часы на запястье. Без десяти два. Он проспал больше пяти часов. Ночной ветер тихонько теребил занавеску на открытом окне.
«Мне приснился кошмарный сон, — подумал он. Это дурное предзнаменование, я знаю. Я предчувствовал это, еще входя в галерею Сержа Молерона, нет, даже раньше, когда мне повстречалась та самая пожилая женщина, которая прокляла меня и предрекла, что мне суждено умереть не то проклятым, не то в муках. Нет, еще раньше, — когда я в отеле получил факс от Кима с вырезкой из «Зюддойче цайтунг» о том, что Якоб Фернер застрелил свою жену и детей, а потом застрелился сам. С этого самого часа мне известно, что смерть постоянно и ежечасно подкарауливает меня, что вокруг меня умрет еще немало людей. «Где двое, там и трое» — примерно так звучит эта французская поговорка. Или так: «Не бывает, чтобы было двое и не было третьего». Так что можно почти не сомневаться, что если упал один самолет, вскорости за ним последует другой, а там уже — непременно! — и третий. И это касается не только самолетов, это относится и к землетрясениям, тонущим кораблям, песчаным бурям… и к истории вообще. И к той жизни, которой я живу, в частности. Этот закон гласит: «Что случилось дважды, непременно произойдет и в третий раз». Не может быть, чтобы погибло двое, а третий не погиб; вздор! — чтобы не погибли многие, очень многие, и я в их числе».
Читать дальше