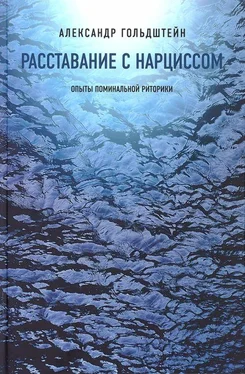«Соц-артовская» манера Зощенко и Платонова, пропущенная сквозь решето народного шума сознания, не являлась следствием личной свободы: в этой манере была тяжелая вынужденность, авторов приговорил к ней фатум истории, языка и искусства, и они согласились с собственной участью, понимая, что другой им уже не дано. Новая мифология, совместившись с вынесенной на поверхность речью низших слоев общества, оказалась единственно полномочным языком государства, выражением его сущности, его бытия, и писатель, если он хотел быть сыном своего времени и ему принадлежать в самом глубоком и подлинном отношении, если он хотел со временем породниться, должен был войти в этот язык, в эту мифологию и сознание, в них отыскав свою жизнь, свою речь. Зощенко не из желания насмешить начал писать от лица низового пролетарского литрассказчика, а Добычин не из прихоти стремился к речи, непроницаемой для староинтеллигентских оценок. Они были убеждены (собой и другими), что иной способ письма означал бы постыдное увиливание от действительности — как если бы в ней ничего не случилось (об этом, в частности, писал А. Жолковский). «Соц-арт» этого толка был осознанной и страдальческой необходимостью; артист же, лишенный дистанции меж собой и своим материалом, становился неотличим от последнего, он выражал его волю в качестве мыслящего тростника и речевого агента, растворяясь в безличной стихии, которой он отдавал себя, словно в руки Отца.
2
Возвращаясь к Белинкову, немедленно констатируем: «Олеша» — книга чрезвычайно смешная; советское слово, взятое как объект, другим быть не умеет. Изображенный в «Сдаче и гибели» мир тошнотворен, но еще больше выморочен и радостно, вдохновенно нелеп. Абсурдистский паноптикум, на безбрежных просторах которого бродят толпы самобытных уродов и все решается «доносом любимого писателя и доносами любящих сослуживцев… доносом жены твоего приятеля, которая боялась твоего разлагающего влияния, и доносом приятеля, который боялся твоего влияния на его жену, доносами пожарников, летчиков, агрономов, жуликов, министров, кинозвезд, могильщиков, литературоведов, клоунов, кораблестроителей, пионеров и октябрят, стрелочников и живописцев, футболистов и энтомологов, венерологов, социологов, паразитологов, палеонтологов и отоларингологов, доносами доброхотными и доносами подневольными, доносами друг на друга, доносами на самих себя, доносами всей страны на тебя и на всех», впрочем, я зарапортовался, цитируя уже другую «Сдачу и гибель», на сей раз русского дворянина, а именно злую статью Белинкова о кающихся декабристах, выдержанную в том же ключе, что и труд об Олеше.
Монументальное сочинение о Юрии Карловиче увертливо плавает между жанрами, поочередно и одновременно входя в воды памфлета, пародийного филологического комментария, гротескного интеллектуального странствия по советской преисподней с ее бесчисленными истуканами, каждому из которых автор выкрикивает гадости и показывает неприличные жесты. Книга монструозных классификаций, книга расползающихся во все стороны сразу, как раки на гоголевской дороге, отвратительных таксономий, и в этом ее несомненная раблезианская природа — в точном, а не метафорическом смысле раблезианская. Белинков, бесспорно, хотел писать, как Рабле (на сей счет он и сам проговаривался), он работал длиннейшими перечнями, обвалами смехового отрицания, переходящими в искреннее любование объектом; здесь была пантагрюэлистская тотальность и отблеск плодотворного языкового сумасшествия, весьма неожиданного в разоблачительном на первый взгляд сочинении и тем более непредставимого в унылые шестидесятые, когда русская литература (исключая узкий слой эстетического подполья) вновь стала со всею страстью жить общественными интересами. Место «Олеши» — в не слишком продуманном пока что ряду русской прозы, в котором помещается, например, солженицынский «Архипелаг» и, вероятно, оказались бы изрядно забытые «Зияющие высоты» Зиновьева, если бы не помраченный, с очевидными провалами в графоманию, «логический позитивизм» последнего впечатляющего труда, испорченного к тому же несносными «кавээновско-итээровскими» юмором и сатирой.
Главная прелесть «Архипелага», единственно замечательного произведения Солженицына, в том, что, подобно «Олеше», книга эта исключительно смешная: таковой она автором и задумана, именно в ней он раскрыл все могущество своего комедийного и саркастического дарования, всю доступную ему тонкость композиционной режиссуры, благодаря которой потрясающе монотонная летопись народных страданий предстала увлекательным чтением. Горе дошло до края, через край перелилось, и освобождающей реакцией стал смеховой катарсис. Посмеялся — и облегчил душу. Облегчился, прибавил бы Салтыков-Щедрин. Между прочим, одна из этимологий «катарсиса» — очищение в самом брутальном физиологическом смысле, возможно, желудочном: это, так сказать, освобожденье от пуза. «Архипелаг» — изящное, несмотря на колоссальный объем, «мениппейное» путешествие на край ночи, смеховая борьба с государством и глубокая ему благодарность за предоставленный уникальный материал. Это радостное сочинение, ибо автор не пожелал сокрыть от читателя переполнявший его творческий восторг. Целевая и моральная философия этого опыта художественного исследования также не составляет загадки: ГУЛАГ уже потому имел право на существование (обладал смыслом), что стал объектом запечатленья в «Гулаге». У Солженицына есть великая цель, у него есть великая биография, совершенная, как классический текст. Солженицын — Шахерезада. Пока он рассказывает, смерти нет, всем очень весело и якобы очень страшно, как у святочного очага, а русская литература вовеки пребудет без изменений. И здесь коренное отличие его от Варлама Шаламова — ярчайшего «экзистенциалиста» в словесности последних десятилетий. Солженицын — Шаламов! Эта дихотомия необходима для понимания случая Белинкова.
Читать дальше