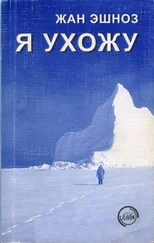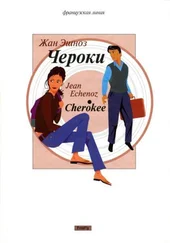В общем, ситуация скверная. В дело вмешивается взволнованная Ида Рубинштейн. Ида все так же высока, стройна, красива и богата и к тому же щедра, достаточно щедра, чтобы принять следующее решение: Равелю нужно сменить обстановку, и она этим займется. Она организует для него длинное путешествие по Испании и Марокко; его будет сопровождать Лейриц. Итак, поехали. Уже в Танжере дела идут заметно лучше. А в Марракеше он в течение трех недель обходит базары вдоль и поперек, не теряясь, как не терялся в лесу Рамбуйе, а затем, вернувшись в отель, даже ухитряется записать три такта музыки в присутствии Лейрица, пробудив в нем надежду на лучшее. Его чествуют всюду, где бы он ни появился, чествуют даже не видя, как, например, в тот день, когда, очутившись среди моря велосипедов, он вдруг слышит свое «Болеро», которое насвистывает некий телеграфист, прокладывая себе дорогу в гуще толпы; впрочем, мы и в это никого не заставляем верить. В Фесе его принимает генеральный консул; он показывает ему город, уверяя, что это зрелище вдохновит композитора. «О, — говорит Равель, — если бы я решил писать в арабском духе, то сочинил бы нечто гораздо более арабское, чем все это». Лейриц шлет открытки с подробными отчетами Иде Рубинштейн, которая, в свою очередь, ежедневно звонит ему. Лейриц уверяет, что все идет прекрасно: Равель очень доволен тем, как его принимают, он немножко работает, он даже написал брату. Лейриц пытается убедить себя и ее, что так оно и есть, однако на самом деле Равель все еще не сбросил гнет усталости, раздражается по любому поводу, едва говорит и больше чем когда-либо чувствует себя оторванным от остального мира, что вовсе не удивительно: этот мир оборачивается для него буйным вихрем пыли, света и движения. Впрочем, на обратном пути домой через Испанию его состояние опять ненадолго улучшается. Улучшается настолько, что, приехав на похороны Дюка, Равель обращается к Кёклену со словами: «Знаете, я тут набросал одну тему… я все еще могу сочинять музыку!» Но на сей раз вы не обязаны верить даже ему самому.
Не обязаны, потому что процесс идет очень быстро, и идет только к худшему: теперь он уже не способен контролировать большинство своих жестов, утратил чувство осязания, практически разучился писать и читать, да и выражается день ото дня все невнятнее, непрерывно путая слова, их порядок и смысл. Что же касается музыки, он еще может кое-как петь или играть по памяти, узнавать произведения, которые ему дают прослушать, но прочесть партитуру или исполнить что-либо по нотам ему уже не под силу. Не говоря уж о сне, который совсем покинул его.
Метод № 3: вести счет. Например, вспомнить все кровати, в которых спал с самого детства. Это сложная задача, она отнимает много времени, каждый раз в памяти всплывают все новые и новые кровати, и это тянется так долго, что становится скучно, — на эту скуку можно рассчитывать как на снотворное.
Возражение: та же скука способна держать Равеля в бодрствующем состоянии, вынуждая его задавать себе неожиданные вопросы, словом, возбуждать. Бывает также, что он плохо справляется со своей задачей: забытье обволакивает его, и надо бы ему уступить, а он не уступает. Желание заснуть так сильно, что он безмерно нервничает в ожидании сна, даже чувствуя подступающую дремоту; это клиническое обостренное внимание отгоняет ее в тот миг, когда она уже на пороге, и все нужно начинать сначала. Ибо, согласитесь, нельзя же делать все одновременно: можно ли заснуть, подстерегая приход сна?!
У него всегда было хрупкое здоровье. Перитонит и туберкулез, испанка и хронический бронхит — организм, измученный всеми этими напастями, не мог похвастаться стойкостью, даже если его хозяин неизменно держался прямо, точно аршин проглотил, в своих безупречно сшитых костюмах. Да и рассудок его сильно сдал под гнетом уныния и грусти, хотя внешне он никогда их не выказывал, от невозможности забыться сном, который упорно не шел к нему. Но теперь его мучит еще и другое: он не видит расчески, лежащей перед ним на туалетном столике, не способен завязать себе галстук, вдеть без посторонней помощи запонки в манжеты.
Друзья стараются развлечь его, водят на концерты, но и там он сидит в кресле с отсутствующим видом, недвижный и немой, как труп. В Париж приезжает Тосканини, и Равеля удается уговорить послушать, как тот будет дирижировать одним из его сочинений. Он неохотно уступает, слегка оживляется, когда публика бурно аплодирует оркестру и дирижеру, но, забившись в глубь ложи, категорически не желает их приветствовать. Друзья удивлены и огорчены: что ему стоит подойти к Тосканини, выразить свое восхищение и тем самым ликвидировать то старое недоразумение с «Болеро»?! «Нет, — отвечает Равель, — он мне так и не ответил тогда на письмо!» В вестибюле театра к нему подходит супружеская пара. Их лица что-то смутно напоминают ему, но что?.. «Дорогой маэстро, — говорят они, — помните, как несколько лет назад вы играли у нас на рояле „Дафниса“ [13] Имеется в виду балет „Дафнис и Хлоя“ на музыку Равеля.
?» «Да-да-да», — безразлично отвечает Равель, ровно ничего не помня и не имея ни малейшего представления, кто перед ним стоит.
Читать дальше
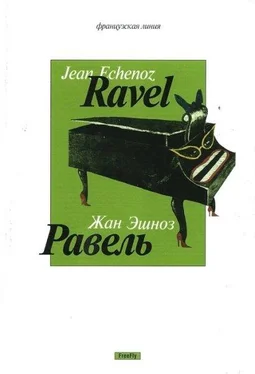
![Жан Эшноз - Полночь - XXI век [Антология]](/books/35083/zhan-eshnoz-polnoch-xxi-vek-antologiya-thumb.webp)